3
3
С другой стороны, именно гамлетовская ирония (ирония в сократовском смысле) порождает самое понятие "философской сказки".
В ней мы, как говорил Кириллов в "Бесах", можем "почувствовать идею" прежде, чем до конца ее поймем и свяжем с другими идеями. Таким образом, интеллектуальная интуиция (самая потребность в ней) оказывается связанной с интеллектуальной иронией, то есть с отстраненным восприятием мира, для которого всегда необходимо представить какую-либо систему понятий в предельно интеллигибельном виде.
Разумеется, "философские сказки" не иллюстрируют общие положения в чувственно-наглядной форме. Яркий пример — новеллы Э.По, которые в нашем понимании и есть то, что я называю "теоретическими сказками".
Э.По всегда избегает каких-либо временных или географических уточнений, более того, его библиографические ссылки — почти всегда мистификация… Многих комментаторов эти странные цитаты из несуществующих классиков настраивают на скептический лад, но мышление, чтобы не превратиться в мифологию, должно быть свободно от контекста, который позволил бы как-то локализовать его сказки. Только в этом случае теоретическое мышление — вполне суверенно, ибо независимо от эмпирической реальности.
Теоретическая же реальность, как и эмпирическая, основана не только на логических выводах, но и на интуиции, и поэтому всегда предполагает какие-либо "умозрительные образы".
В известном смысле, "теоретическое безумие" садовника из "Сильви и Бруно" состоит не только в сочетании конкретного и общего (куска мыла и теологического аргумента — в последней песне), но и в том, что "все это он видел".
Таким образом, интеллектуальная интуиция, порождая теоретическую реальность, превращает сказки Кэрролла — иначе они были бы просто забавными лингвистическими экспериментами — в философские притчи, в то время как традиционные сказки остаются в пределах мифологии (вне царства Снежной королевы). Мы уже объяснили, почему Андерсен, этот великий представитель традиционной мифологической сказки, хотя и видел "другую сторону зеркала", не мог без ужаса воспринимать "ледяную игру разума". Хотя он, подобно другим романтическим философам и поэтам, часто говорил о своей любви к детям, как известно, он их боялся. Мир жестокой и безответственной абстрактной игры, то есть именно мир детства, был ему в отличие от Кэрролла чужд. Поэтому он всегда, в сущности, принадлежал к мифологическому (основанному на преданиях) "миру бабушки". И в этот взрослый мир его герои возвращаются, спасенные от царства Снежной королевы, от мира игры.
Только отдавая себе отчет в том, что в отличие от поэзии, оперирующей образами, "игра разума" — и тем самым сказка — лежит в пределах царства Снежной королевы, мы можем корректно говорить о сказках (не обязательно, разумеется, о приведенных в книге) как об элементе духовной культуры. Иначе нам пришлось бы их отнести к искусству.
Но ведь искусство всегда чуждается окольных путей. Оно склонно выразиться словами ребенка, которыми восхищался Чехов: "Море было большое". Вместо этого теоретическое мышление занимается классификацией морей: по солености, по высоте приливов, по типу. О самом же море не говорится обычно ничего.
И в сказках, как и в теоретических построениях, нет ничего прямого и солидного. Нет ни персонажей, ни конкретных характеристик — одни теоретические околичности и увертки вроде мендианского "белого медведя". Можно сказать, что героями книги являются идеи.
Продолжение следует
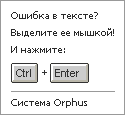


Добавить комментарий