28. Соученики по гимназии
Накануне посещения издательства «Макмиллан» Великовский брезгливо отложил опус Пайн–Гапошкин, с твердым намерением никогда больше не возвращаться к нему. Но он вернулся к нему уже через пять дней. Как и обещал Теккерею Шапли, в журнале «Рипортер» 14 марта 1950 года была опубликована та же статья.
Великовский немедленно заметил некоторые изменения, отличающие ее от варианта, размноженного на мимеографе. Он достал этот экземпляр и стал сличать текст. Фраза об остановке вращения Земли в журнальном варианте звучала так: «Допустим, однако, что д–р Великовский прав – что Земля прекратила вращаться. В этом случае все тела, не прикрепленные к поверхности Земли (включая атмосферу и океан) продолжали бы свое движение и улетели бы со скоростью девятьсот миль в час на широте Египта».
Великовский был потрясен. Он не представлял себе, что в научном мире может существовать подобное жульничество. Пайн–Гапошкин либо сама заметила, либо кто–то обратил ее внимание на невежественный промах по поводу остановки вращения в течение шести часов, и жульническим приемом она просто отбросила «временной» фактор. Мало того, что критике подвергался даже стиль книги, которую она не читала, мало того, что ей не был известен вариант, при котором эффект «остановившегося солнца» мог быть вызван изменением наклона земной оси под влиянием сильного магнитного поля, мало того, что она позволяла себе личные выпады, — астроном и классицист, сотрудница профессора Шапли занималась… мелким жульничеством.
Статья Пайн–Гапошкин не столько разозлила, сколько опечалила Великовского. Не оскорбительный тон, не явно издевательские выпады в «стиле Шапли» — от заглавия «Абсурд, д–р Великовский» до семи строк из «Петуха и Быка», которыми она закончила статью, были тому причиной. Его опечалило, что люди со статусом ученого могут заниматься фальсификацией и обманом. Увидев статью в «Рипортер», он понял, что даже в науке, – если только это можно назвать наукой! – подлости нет предела. Как не поверить профессору Гарвардского университета? В этом «как не поверить профессору» и заключалась трагедия.
Ученый пользуется доверием у обывателя. Ученый, конечно, может заблуждаться в определенных случаях. Но о каком заблуждении может идти речь, если ученый попросту пишет о прочитанной им книге? Придет ли в голову обывателю, что, во–первых, Гапошкин книгу не читала, а, во–вторых, что она опустилась до низкой лжи?
Великовский отложил «Рипортер» и сколотые скрепкой листы мимеографа. На душе было премерзко. Раздался телефонный звонок. С явным неудовольствием Великовский поднял трубку. Ему сейчас не хотелось разговаривать ни с кем: мир казался ему огромной клоакой.
– Хелло, док! – фамильярно прозвучал в трубке незнакомый голос с едва уловимым иностранным акцентом. – Я срочно нуждаюсь в медицинской помощи.
– Вы ошиблись номером. – Великовский уже собрался положить трубку.
– Подожди швыряться средствами коммуникации. Я не ошибся, что и намереваюсь доказать через несколько минут. Я просто решил удостовериться, что ты действительно существуешь. Итак, грубый и невоспитанный тип, не ожидая твоего приглашения, мчусь.
Великовский не успел ответить. Трубку положили. Что за чертовщина? При нынешнем настроении не хватает еще каких–то дурацких мистификаций.
Через несколько минут в дверь позвонили. Настроенный весьма недружелюбно, Великовский пошел открывать. В дверях, широко улыбаясь, стоял весьма респектабельный джентльмен лет пятидесяти пяти. Отличный серый костюм гармонировал с седыми висками. Тщательно повязанный галстук был заколот со вкусом подобранной булавкой. Загораживая собою дверь, Великовский вопросительно смотрел на незваного гостя. Джентльмен неожиданно заговорил по-русски, с характерным московским аканьем:
– Ну и вымахал, дылда! Тебе бы не книги писать сенсационные, а заделаться профессиональным баскетболистом. Наклонись, Мончик, я тебя облобызаю.
Великовский вгляделся в незнакомца и вдруг схватил его в объятия:
– Вася! Ты?.. Какими судьбами?
Василий Комаревский, с которым он несколько лет учился в 9–й Московской гимназии, сейчас, оказывается, профессор–химик Иллинойского технологического института. Недавно он почему–то получил размноженную на мимеографе статью какой–то Пайн–Гапошкин, профессора из Гарварда. Ему это не понравилось уже само по себе, потому что он не имеет никакого отношения к астрономии, и было ясно, что тут попахивает чем–то непорядочным, тем более, что краем уха он уже слышал о каком–то давлении на компанию «Макмиллан». А тут еще фамилия Великовский. Не Мончик ли это? Именно он способен на нечто экстраординарное, что может разворошить профессорский муравейник. Выяснил — действительно Иммануил Великовский. Ну, а дальше – в лучших традициях 9–й гимназии.
Великовский был несказанно рад дорогому гостю. Он представил его Элишеве. Атмосфера взаимной симпатии вытеснила тягостное настроение, вызванное статьей в «Рипортер».
Уже после получения мимеографического экземпляра Комаревский прочитал обзор Эрика Лараби в «Харпер'с». Интересно. Но ничего определенного сказать по этому поводу он не может. Попросил Великовского, если нетрудно, «сделать доклад для неуча». Великовский, ни разу не перебиваемый, рассказывал около часа.
– Ну что ж, мне это кажется убедительным. Но ведь я не специалист. В любом случае, у тебя это логичнее, чем у Лараби.
Великовский показал Василию оба варианта статьи Пайн–Гапошкин.
– Понимаешь, даже полная остановка вращения Земли в течение шести часов на широте Египта, где линейная скорость 900 миль в час, ощущалась бы человеком весом в 75 килограммов как толчок силой в 150 граммов. Что касается атмосферы и гидросферы, то с ними произошло бы именно описанное мною. Гапошкин поняла это. Она увидела, что теряет единственный контраргумент, и попросту сжульничала в «Рипортере» – «забыла» упомянуть «временной фактор» – шесть часов. У читателя может сложиться впечатление, что речь идет о мгновенной остановке вращения Земли. А что ты скажешь о критике языка и стиля книги, которую она не читала?
Комаревский помолчал, а затем очень серьезно ответил:
– Ты должен был ожидать именно такую реакцию.
– Но почему? Научную критику, обоснованные возражения, постановку ключевых экспериментов, подтверждающих или опровергающих мою теорию. Но обструкция? Почему?
– Мончик, ты — психоаналитик. Тебе и карты в руки. Но, как говорится, со стороны лучше видно. Пожалуйста, несколько резонов. Во–первых, ты – не член корпорации – ворвался в тесную компанию, и без тебя сомневающуюся в благополучии их науки. Во–вторых, ты сделал то, что хотели бы сделать корифеи, пробудив у них чувство зависти в самой низменной форме. В–третьих, а, возможно, это и есть во–первых, наши корифеи–астрономы – важные либералы и борцы за мир. Этим сподручнее заниматься, чтобы каждый день фигурировать на первых полосах газет, чем делать научные открытия. Заметил ли ты, что многие прекраснодушные живут на ренту со своего прошлого? У этих борцов–либералов выработался комплекс преследования. Их, как они считают, преследуют оголтелые реакционеры, их преследует военно–промышленный комплекс, они не уверены в том, что публика принимает их за посланцев Бога на земле, а тут еще появляется какой–то Великовский, выставляющий напоказ их неприглядную наготу. А ты хочешь, чтобы они тебя любили!..
Элишева ушла на кухню, и они снова заговорили по–русски. Обсуждали природу левизны американских интеллектуалов.
– Понимаешь, Мончик, беда заключается в том, что каждый астроном или химик считает себя знатоком в обществоведении. Убийственный дилетантизм людей, лишенных, к тому же, полноты информации.
– Скажи, Вася, читал ли ты когда–нибудь Маркса?
– Пытался. Но после нескольких страниц «Капитала» отказался от этого занятия, поняв, что из меня не получится просвещенный левый.
– Было бы весьма желательным, чтобы просвещенные левые прочитали Маркса. А если хоть раз прочитали, попытались бы осмыслить, что это такое.
– Неужели у тебя и на это хватило времени? Ты удивляешь меня сейчас не меньше, чем в гимназические годы. Так в чем там дело у Маркса?
–Только очень дотошный и объективный биограф сможет представить картину чудовищных противоречий, которые свили «клубок», называемый Карлом Марксом. Он был тем, что немцы называют Luftmensch — ни на что не годный человек. Без определенных занятий, без постоянных средств к существованию, он из Германии эмигрировал во Францию, а оттуда – в Лондон. Один за другим его дети, рожденные в Лондоне, умирали от недоедания и плохого медицинского ухода, пока их отец ежедневно работал над своими произведениями в библиотеке Британского музея. Он изучал отношения в индустрии в пору английской индустриальной революции, он наблюдал дикую эксплуатацию так называемыми достойными несчастных тружеников, к которым относились хуже, чем к рабочему скоту. Он изучал колониальную экспансию Великобритании в Африке и странах, омываемых Индийским океаном. В результате этого изучения он пришел к формулировкам и лозунгам, которые можно было написать, цитируя еврейских пророков. Он отвергал религию. Он отвергал даже свое еврейское происхождение на том основании, что в шестилетнем возрасте его крестили. Одним из первых его сочинений, после того, как материалистическое понимание истории подтолкнуло его к коммунистическим идеям, была резко антисемитская работа. Кстати, не Маркс, а Моисей Гесс был автором идеи современного коммунизма. Тоже еврей, рожденный в Германии, Гесс жил и писал во Франции. К нему в 1840 году пришел юный Энгельс, который годом позже познакомил Маркса с идеями Гесса. В 1848 году они создали «Коммунистический манифест», что положило начало движению. Но Гесс вскоре понял, к каким несчастьям может привести мир это движение, о чем он пророчески написал Герцену.
– Ты имеешь в виду русского писателя?
– Да, Александра Герцена. В 1862 году Гесс написал книгу «Рим и Иерусалим» – труд о пробуждении национального самосознания. Он понимал проблемы евреев более глубоко, чем Теодор Герцль спустя поколение. Но я отвлекся. Очень сильно меня всегда занимают проблемы еврейства. Так вот, о Марксе. Это просто парадоксально, но он строил свое учение, основываясь на теории Дарвина, не замечая того, как не замечали и до сих пор не замечают марксисты, что в свете исторического материализма политические революции следует рассматривать как подобие катастроф, а не эволюции в природе. Туговато у них с логикой. Интересно, что Дарвин был более последователен, чем Маркс. Он категорически, безоговорочно воспротивился, когда Маркс хотел посвятить ему «Капитал». Несчастье марксизма заключается в том, что его автор построил здание… без фундамента, на песке. Его идеи, его псевдонаучность весьма привлекательны в нашем неустроенном обществе. Я не случайно употребил слово «несчастье». Французская революция обезглавила на Плас де ля Конкорд несколько сот человек. Марксистская революция лишила жизни многие миллионы людей. И когда в сталинских тюрьмах пытают и убивают очередные жертвы, Маркс взирает на это со своего всюду присутствующего портрета. И еще один парадокс. Если на основании дарвиновского учения Маркс построил теорию в защиту слабого, эксплуатируемого, то действительным развитием положения о борьбе за выживание явилось ницшеанское учение о супермене, о сверхчеловеке, которому все дозволено. А это развилось в положение о господствующей расе. Вигнеровская медь разбудила воспоминания о нордических Валгаллах, и насилие меча и огня бисмарковского милитаризма выросло в «Drang nach Osten». Эта сила нашла свой конец в столкновении с другим окончательным продуктом идеологии XIX века.
– Веселенькая картинка! О другом окончательном продукте и его воплощении в России мы, слава Богу, наслышаны. Знаешь, во время войны все мои симпатии, тем не менее, были на их стороне. Все мое существо, глубоко русское, откликалось на каждое их поражение и победу. Остался у тебя кто–нибудь в Москве?
– Два брата. Дочь одного из них погибла в боях за Москву.
Помолчали.
Вернулась Элишева, пригласила к столу. Беседа велась на английском. Продолжением русского хлебосольства стала музыка. Элишева играла превосходно. После Анданте кантабиле Чайковского, сыгранного с большим чувством, взволнованный Комаревский подошел к ней и в низком поклоне поцеловал обе руки.
– Великих людей Бог иногда награждает такими женами, – сказал он по–русски. Великовский рассмеялся и перевел фразу на немецкий.
Это был чудесный вечер. Великовские не отпускали Василия. Но он еще сегодня должен был вернуться в Чикаго. Великовские проводили его до метро, договорившись о будущих встречах.
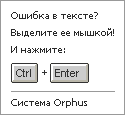


Добавить комментарий