История одной мечты
История одной мечты
В этом самоопережении душа поднимается над естественным светом, свойственным только творению, и вступает в непосредственное общение с Богом.
Майстер Эккарт.
О созерцании Бога
Еще в XVIII веке библейская критика указывала на якобы разительное противоречие Книги Бытия здравому смыслу. Казалось странным, что свет возник в первый день Творения, а светила лишь на четвертый. Но трудно представить более точное выражение самой сути основной идеи общей теории относительности, чем утверждение приоритета поля над его источником.
Во времена Просвещения, когда ньютоново восприятие мира казалось единственно возможной формой познания, действительно, самая идея о взаимодействии, предшествующем телам, показалась бы противоречащей Разуму (который в эту эпоху еще отождествлялся с наглядностью).
Для ньютоновой механики взаимодействие — лишь связь между материальными телами. Совершенно естественно, что эта связь являлась в форме дальнодействия. Ведь свойства тел везде считались одинаковыми. И лишь позднее, когда возникла идея волнового поля, то есть взаимодействия, проявляющегося там, где материальные источники отсутствуют, появилась идея о поле взаимодействия как о чем-то самостоятельном.
Полная реализация этой идеи стала возможна лишь в рамках геометризованной концепции поля у Эйнштейна.
Еще раньше Пуанкаре заметил, что всякая картина мира образована двумя составляющими (своего рода логической суммой): внешними силами (источниками) и геометрией. Это был так называемый конвенционализм, поскольку, выбирая подходящие источники, можно добиться, чтобы картина, образованная этими источниками и заданной геометрией, верно отражала действительность. Ведь измеряя, как это делали в свое время Гаусс и Лобачевский, сумму углов реального треугольника, всегда можно спросить: а почему это, собственно говоря, прямолинейный треугольник? Иначе говоря, отклонение линии от прямой можно объяснить как заменой евклидовой геометрии какой-либо другой, так и включением дополнительного поля сил, искажающего законы оптики. Определение прямой становится условностью. Но Эйнштейн менее всего был склонен удовлетвориться идеей о геометрии как о результате соглашений. Ему была нужна теория, не просто описывающая внешний мир, но и несущая в себе реальность. Чистая феноменология могла удовлетворить, по его определению, "лавочников и инженеров". Ему же самому нужна была онтология.
Именно отсюда возникла идея динамической геометрии, в которой источники из внешних свидетельств "реального", то есть эмпирического мира, становятся элементами самой теории.
Речь идет о теории нового типа, в которой нет деления на внешнее и внутреннее. Она вся состоит из "одной стороны", как пространственный аналог листа Мебиуса — бутылка Клейна, в которой горлышко "вшито" внутрь, — благодаря чему эта поверхность не делит мир на две части, для нее не существует деления на внешнее и внутреннее. Но тогда уже нельзя говорить об опыте и теории в старом смысле, как это понимали все эмпирики со времен Бэкона, то есть делить теорию на реальные факты и на собственно теорию. С такой точки зрения действительность включается в теорию. Включается не в пифагоровом смысле, то есть мы не постигаем с помощью магии чисел внешнюю реальность. Мы лишь находим этой реальности место внутри теории. Тем самым физические факты как бы переводятся на язык геометрической теории. Таким образом, возникает вторая, внутренняя действительность, существование становится одним из свойств физических объектов. Но тогда снимается главное возражение Канта относительно онтологического доказательства Совершенного Существа. Как известно, Кант возражал против доказательства, идущего из возможности к действительности, именно тем, что бытие — не предикат, а выводится из конструкции объекта. Поэтому из "возможных" ста талеров не возникнут сто талеров реальных.
В рамках же геометризованной теории, допускающей различие между подлинным и фиктивным, то есть в рамках теории, включающей источники, различие между евклидовой и неевклидовой геометриями — абсолютно. Ведь мы рассматриваем всю систему, отказываясь от деления на геометрию и источники. Стало быть, мы можем говорить о реальном и фиктивном на языке самой теории. До конца эта идея была воплощена лишь в теории гравитации. Геометрический подход позволяет говорить о пустом неевклидовом пространстве, то есть для кривизны пространства не нужны какие- либо внешние основания, чтобы объяснить вселенную. Вселенная с этой точки зрения, как сказал Эйнштейн, несет в себе свои основания. Можно сказать, что такая теория могла бы ограничиться первым днем Творения. Как мы видели, идея Совершенного Существа является в такой теории не добавочной гипотезой, а существенным основанием системы в целом. Именно поэтому можно говорить о теологическом характере таких построений.
Как и у св. Августина, в основе таких построений лежит идея нерасчлененной реальности. И само понятие Совершенной Сущности возникает как реализация концепции Реальности. Именно поэтому в основу онтологии св. Августина положена идея иерархии сущностей, то есть утверждение, что Зло не есть какая-то оппозиция Добру, а лишь несовершенно существующее (недостаточно существующее) Добро. Так как и в этом случае возникает доктрина типа бутылки Клейна, у которой, как сказано в апокрифическом евангелии от Фомы, "два равны одному" — не различается внешнее и внутреннее.
На осуществление этой мечты, то есть на геометризацию всех полей, что дало бы возможность полностью исключить источники из физики, ушли (и, увы, бесплодно) последние тридцать лет жизни Эйнштейна. Ради реализации этого необычайно поэтического замысла великий физик пожертвовал также своим огромным научным авторитетом.
Хотя общая теория относительности и прочно вошла в науку, а сама идея геометризации на какое-то время заразила многих, скоро стало ясно, что этот замысел явно не связан с "большой" физикой, то есть с ее основными задачами. И великому ученому, первому из физиков, пришлось почувствовать себя немного смешным анахоретом (возникла странная дихотомия: классик и смешной старик). Поэтому и до сих пор источники, связанные с другими (негравитационными) взаимодействиями, присутствуют в гравитационных уравнениях Эйнштейна как нечто внешнее, то есть разделенная реальность присутствует и в них. Как выразился сам Эйнштейн: "Левая (геометризованная) часть моих уравнений — прекрасная мраморная колонна, правая же — гнилой деревянный столб (полный спектр дней Творения)".
Возможно, однако, что сама эта незаконченность является главным признаком жизненности науки, ее способности описывать реальность. Вполне вероятно, что это подтверждает взгляды Рассела на науку как на не до конца раскрытую тавтологию, поскольку разделенная реальность как раз и ведет к тавтологиям. Ведь в этом случае теория включает те же "внетеоретические" объекты (светила), входящие и в физическую реальность, с которой теория сопоставляется. В теорию тем самым вводится лишний элемент, нужный лишь для сравнения. Но такой извечный дуализм вполне в духе теологической доктрины христианства, с которой мы сравнивали замысел Эйнштейна. Сама ее сущность именно в том, что Марфа присутствует наряду с Марией, то есть наряду с универсалиями должны существовать отдельные вещи. Ведь в этой доктрине Совершенная Сущность не включает отдельные вещи, которые, однако, ей не противопоставлены, ибо входят в иерархию сущностей и в сравнении с ней обладают лишь меньшей степенью реальности. Иначе говоря, платонизм геометрической доктрины, не нуждающейся в чем-либо, "кроме первоначального света, заменяется томизмом, в котором многое сочетается с единичным.
Именно внутренняя неудача более всего придает мечте Эйнштейна религиозный характер, ибо мистика всегда иррелигиозна.
Эта незавершенность вносит в историю науки трагический характер, необходимый для ее восприятия как чего-то поэтически целого и музыкального. И, конечно же, — трудно было бы найти более яркую эмоциональную манифестацию этой идеи, чем сама личность Эйнштейна, в которой музыкальность, то есть подчиненность некоторому единому архитектурному замыслу, кажется самой значительной и определяющей чертой.
Конечно, музыкальность — совершенно лишний элемент в прагматической физике, но для физики как существенного элемента культуры связанность таким внутренним замыслом кажется необходимой.
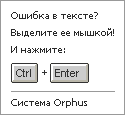


Добавить комментарий