И.П.Лапин «Задушевная Италия». Часть 1
Почему и как Италия стала для автора задушевной
Названия городов Италии на итальянском
Полицейская знакомит с Христом и Мадонной
Пятнашки на крыше Миланского собора
Имена и фамилии итальянских коллег
ПОЧЕМУ И КАК ИТАЛИЯ СТАЛА ДЛЯ АВТОРА ЗАДУШЕВНОЙ
Почему автор решил рассказать то, что вы, читатель, прочтете в этой книжке. Почему начал писать эти рассказы? Нет, не потому, что не мог не писать. Так иногда говорят. Не знаю. Не терпел так долго, чтобы пришлось признать: «Не могу!». Помните ответ мальчика в Одессе на вопрос: «Играешь на скрипке?» — «Не знаю. Не пробовал».
Перед автором никогда не было вопроса, записывать ли как под диктовку еле слышный голос его друга. Поднимался откуда-то из глубины. Что там в глубине? Душа, конечно. Робкий и печальный. Как не записать? В ушах его голос: «Эх! Дорогой мой друг и товарищ!» Так он обращался к автору в те годы. Его шутливые вариации на обращения наших «официальных лиц». Интонация была, как часто у него, ироническая. Как досадно, если это все пропадет.
— Хоть ты запомни. Оно ведь как? Проехало и проехало. Всего не упомнишь. Да и не надо ей. Она ценила только нужных людей. Случайные встречные — исключение. Да, рациональное устройство природы!
Долгими вечерами он рассказывал автору. Они дружны со школы. Никогда не звучало как исповедь. Хоть он и был, наш любимец, открытым человеком, искренним во всем. Никогда не утаивал. Даже того, что имел право не рассказывать. Из личного. Про себя, родителей, родственников. Раз уж стал говорить, то без утайки. Прямиком. Но имел прекрасное чувство меры. Не перегружал своими рассказами никого. Вообще был на редкость деликатным. Как-то раз один наш одноклассник изрек в задумчивости, когда провожали нашего первого. Утонул в заливе.
— Уходят лучшие! Во какой философ. Мы — не философы, и то знаем, что уходят все. И хорошие, и очень хорошие, и подлецы, и предатели. В произвольном порядке. Ну приятно человеку философствовать, обобщать, теоретизировать — на здоровье. Он же никому плохо не делает.
Моего друга в тот, последний его, месяц как прорвало. Когда-нибудь видели, как плотину прорвало? Тогда сразу поймете. Наверно, чувствовал, бедняжка, что уходит. Что скоро. Хотя не рак, не инсульт, не инфаркт. Не до конца разобрались. Сейчас уже не так важно. И вместе с ним — в землю или прямо на небеса — уйдет безвозвратно (!) важная для него часть его души. Он очень хотел, чтобы она пережила бы его. Осталась.
В любой форме. В какой? На магнитофон его никто не записывал. На камеру его не снимал. Что остается? Рассказать! Но в книжке. Чтобы осталось «в материи», как он иногда говорил. На словах — улетучится. Кто будет и кому пересказывать? У кого время найдется слушать? В память такого друга автор бы рассказывал день и ночь. Бог с ними, его делами. Не так и много их. Можно отложить. Но кому теперь интересно слушать душу человека, которого давно нет на земле? Свою жизнь не успеваешь жить. И сколько житейских хлопот! Они важнее даже его воспоминаний. Грех, наверно, себя посвящать умершим, когда живые кушать просят?..
Его нет с нами уже семь лет. Но он с нами. Раз его имя звучит вживую. Раз его слова звучат у нас. Мы его слышим и видим. Благодарим и благодарим.
В его «Эх!» было столько боли, такая тоска, что не записать было бы как отвернуться от человека в беде. Потом всегда найдутся спасительные объяснения, рационализации: «Не успел. Вообще плохо пишу. Я же не он. У меня так не получится. Даже если писать под диктовку. Может, он еще кому-то это рассказывал? Кто получше запишет. К литературе ближе. Что-то даже писал. Покойному другу нравилось. Как он теперь с того света даст добро моей записи? Не услышит ее. Не могу же нарушать авторское право?! Моего дорогого друга…»
Зачем исповедям друга быть обнародованными? Это ведь исповеди! Только самому себе и самым близким. Если услышит их настрой на его темы. Трудно сказать. Автор не такой деловой и рациональный. Если все-таки надо ответить на этот вопрос, после того как рассказы уже написаны, то, наверно, для того, чтобы что-то осталось из особенно душевных переживаний. Как документ. Для тех, кому это близко и дорого. Кому это нужно? Не знаю, кому и когда. Нельзя исключить, что кто-то вдруг задумается: как и что он или они, россияне, наши земляки, переживали в Италии в начале этого двадцать первого века? Ведь интересно. Воистину и уму, и сердцу.
Автор…
Можно сначала немножко о нем? Для чего? Чтобы тому, кого заинтересует книжка по названию, сразу было ясно, кто рассказывает.
Фамилия автора ничего никому не скажет. Никто на нее не клюнет. Она не известна на рынке «книжной продукции». Не писатель. Разве что случайный прохожий что-то припомнит:
— Да-а! Кажется, где-то эту фамилию видел. В Интернете. Если не ошибаюсь. Были у него же лет десять тому назад «Плацебо и терапия» и «Личность и лекарство»? По-моему, врач. Психофармаколог или психотерапевт. В общем, что-то с «пси-хо-». Путаются в голове все эти названия.
Потом что-то про стресс, тревогу и депрессию. Книга небольшая. Вот это уже «теплее, теплее…». Ближе к нам, читателям немедикам. Проблемы общие сегодня.
В библиографиях, потом и в Интернете попадалось что-то и другое. Ближе к художественной литературе. Большая книжка «Время такое». Страниц пятьсот. Вышла в Питере в 2007 году. Попытки разобраться в поступках человеков. Тех, кого судьба поместила вокруг автора в советское и постсоветское время.
У нас она, эта книга, по-моему, скажет новичок, мало известна. Вот в Америке и Израиле дотошные читатели выудили ее где-то в Интернете. Заказали, читали, передавали другим. Нашим бывшим согражданам, естественно. Ведь на русском книга. Им это время близко. Пока еще близко. Даже звонили по мобильнику в Питер.
Попали… к автору… в реанимационную палату. Лежал с аритмией. Мобильник всегда был при нем, «на всякий случай». И чтоб родные могли легче связаться. Пока может сам отвечать.
— Слава, звоню вам специально. Сказать, с каким восторгом здесь все читают вашу книгу. Не представляете себе. Передают друг другу постоянно. Чтоб вы знали.
— Спасибо, Сашенька. Вы когда приехали в Питер?
— А я из Иерусалима.
— Дела-а! Никогда мне никто не звонил из другого города по мобильнику. А тут из Иерусалима. Оказывается можно. Отличная слышимость!
— Так уж и все? В восторге. А если все, передайте большой привет вашей Ципи Ливни, министру иностранных дел. По телевизору видел. Она, по-моему, очень мила.
Что автор написал здесь о «Времени таком» — не реклама, ясное дело. Просто протокол событий. Нельзя рекламировать то, чего нет. А «Время такое», по-моему, распродано.
В этом году была книжка маленьких рассказов «Моцарта твоего сперли. Ничего не придумано». Об эпизодах из нашей жизни. Честно, тоже не реклама.
В книжке, что у вас в руках, рассказы о впечатлениях и переживаниях рядового россиянина в Италии наших дней. Как бы «среднего американца». Частных, очень личных.
Так уж рассказы об этом надо писать? Кому это интересно? Сколько россиян, туристов и деловых людей сейчас бывает в Италии. У каждого, понятно, свои впечатления. Обо всех писать рассказы? Согласен.
Но, во-первых, каждый человек индивидуален. Так? Аксиома. Труизм. Во-вторых, впечатления и переживания именно этого индивидуума, моего покойного друга, могут быть интересны разным читателям. Если есть что-то общее с автором. В душе. Почему? Потому что это глазами не чужака. Человека, сроднившегося с Италией и ее людьми за многие годы. Еще школьником он «вырастал», по его словам, в Эрмитаже. На лекциях и занятиях в залах. На еженедельных экскурсиях. Долгими часами в библиотеке Эрмитажа. Сколько выдающихся знатоков искусства Италии он слушал! Радовались за него очень. Повезло парню! Или не «повезло», а сам сделал себя таким. Как это у англичан? Self-made man.
Как-то давно рассказывал, и не один раз, как был в самых исторических — для него — городах: Риме, Милане, Флоренции, Венеции. Не как турист — «Смотрите налево. Смотрите направо». По главным университетам страны. С докладами и лекциями о своих работах. Он у нас известный. Много чего пооткрывал. Приглашали коллеги. Они с душой составляли для него «культурную программу». Тонко, по его личным интересам и вкусам. Роскошный сервис. Подолгу и сам бродил. Был свободен распоряжаться своим личным временем. Редчайший случай в деловых поездках.
Многие из его петербургских коллег и приятелей считали его «своим итальянцем» — и в шутку и всерьез. Не только за его любовь к Италии. Много таких среди нас.
По происхождению. Была в его семье стойкая легенда, что их прапрадедушка и прапрабабушка из Болоньи. Приехали в начале XIX века в Варшаву. Все мужчины из предков — столяры. Было, и сейчас кажется есть, маленькое итальянское «землячество» в Варшаве. «Империя мороженого», по словам одного польского коллеги.
Мороженое, верно, вкуснющее. «Лучше, чем везде», — говорил тот коллега. Дедушка и бабушка в конце века переехали в Пинск. Там родились мама и все ее братья.
Название книжки…
Как все, о чем сказано и не сказано, отразить в названии? Ну не все, разумеется. Но главное. Из того, что глубже всего было в его сердце.
Задача оказалась почти невыполнимой. Почему почти? Потому что в конце концов автор вышел на одно. Перебрав, без преувеличения, несколько десятков.
«Задушевная Италия». Задушевная песня. Задушевный разговор. Задушевная исповедь. Слышите?
Просмотрел даже… Не удивляйтесь! Несколько словарей. Не только русского языка — Даля, Ожегова и других. Иностранных. К чему это? Давно убедился, что они могут иногда (!) помочь оценить какое-то слово на русском. Лучше его прослушать. На какое оно больше похоже. Сейчас ограничился словарями английского и итальянского.
Смотрим. В русско-английском. Задушевн| |ость ж. sincerity,
— ый sincere; ~ ый друг bossom friend; — ый голос gentle voice;
— ый разговор, — ая беседа heart-to-heart talk. Нашел! К моему названию подходит лучше всего heart-to-heart. «От сердца к сердцу». Это я и хотел выразить. В русско-итальянском. Задушевн |о ~ ый intim; cordiale (сердечный): sincere (искренний): ~ ый разговор colloquio intimo. Пожалуй, cordiale. Тут, как и в английском, есть «сердце»! От сердца к сердцу.
Итак, «Задушевная Италия».
Было «И это Италия, синьор!» Название первого рассказа.
Что ж. Частные впечатления, субъективные — тоже Италия. «И это Италия, синьор». Но «синьор» может смутить российского читателя. Возьмет книжку в руки и подумает, что автор обращается к кому-то в Италии, к итальянцу. Он писал только для российского читателя.
Было и тщательно отобранное «Памятная Италия». Конечно, памятная. Каждому туристу памятная. Италия! Из всех стран для многих, кого знаю, особенная. Но сердце автора в таком названии осталось бы в стороне.
Была и «Личная география и личная история». Понятно, хотел подчеркнуть, что это его личное. «Я вам не скажу за всю Одессу…» Песня популярная. И без всяких «личная» и «личное» ясно, что не путеводитель по стране.
Всех вариантов не перечислить. И не нужно. Из полуфабрикатов здесь упомяну только «Путеводитель для избранных (или — не для всех)». Намерением автора было выделить, что эта «Задушевная Италия» — не для всех. Это не для широкой публики.
Каких избранных? Нет, не VIP-персон. Так и не уразумел, по какому критерию к ним причисляют. Когда-то в аэропортах и на вокзалах была дощечка «Комната для депутатов Верховного Совета СССР и союзных республик». Все ясно. Не депутат — в эту комнату не суйся. VIP-персона? На носу не написано. Документа, удостоверяющего, что он VIP, нет. По деньгам? По очень большим деньгам?
Нет, мое здесь не для VI Ров. Для тех, кому рассказанное по душе. По сердцу. Помните, было выражение «Ни уму, ни сердцу»? Тут наоборот.
Для тех, кто «не пожалеет напрасно потерянного времени». Последние кавычки поставил потому, что эти слова содраны с Игоря Губермана. На одном выступлении он зачитывал записки из зала. В одной и было это признание: «Мне понравилось. Совершенно не жалею напрасно потраченного времени». О его концерте, на котором автор записки был первый раз. . Слово «путеводитель» заменено в последний момент словом «гид». Хоть автор не любит злоупотреблять иностранными словами в быту и в науке. Слово «гид» короче и здесь лучше подходит. Потому что «гид» — это и книжка-путеводитель, и человек, который показывает и рассказывает. Экскурсовод по-старому. Тем самым «два в одном».
Автор…
Имя автора скажет еще меньше, чем фамилия. Вряд ли возникнут ассоциации. Один наш аспирант спросил автора:
— Что за странное имя? Изяслав.
В ответ тотчас услышал:
— Не странное. Редкое.
Часто спрашивают. Отвечал:
— Вспомните, если можете, историю Древней Руси. Там этих Изяславов несколько. Изяслав Ярославич. Сын самого Ярослава Мудрого! Великий князь Киевской Руси. В одиннадцатом веке.
Изяслав Мстиславич — тоже великий князь Киевской Руси. Уже в двенадцатом веке.
Выучишь тут, когда почти все удивляются, откуда такое имя. Про молодежь и говорить не надо: «Они Вторую мировую немного путают с Троянской» (тоже Игорь Губерман). До упоминания древних городов обычно не доходило. В памяти остаются Изяслав в Хмельницкой области Украины, Изяславль — древнерусский город XII-XIII веков, уничтоженный татаро-монголами в тринадцатом веке.
Ни с князьями, ни с городами, как вы догадываетесь, автор не связан. Совпадения.
Сейчас модно спросить: «Как вы, автор, себя позиционируете?»
Не знаю, что такое «позиционируете». Знаю только, что сейчас модно так говорить. За модой не угнаться. Да и нет желания. Раньше было, по-моему, «представляете». Автор, просто влюбленный в Италию.
Среди полуфабрикатов к названиям мелькнуло «Моя Италия». Это уже слишком!
И на экспансию смахивает. «Моя» уже была в последней книжке «Моя Золотая Кладовая».
Может, вообще не нужно здесь рассказывать, что и как писал, как отбирал слова? Ведь живописец перед своей картиной на выставке не выставляет табличку с описанием того, какие краски он смешивал, в какой пропорции? Сколько охры, краплака, берлинской лазури. Сам смотри, посетитель выставки. Впечатлил какой-то цвет, серо-оранжевый вечернего неба или розово-малиновый на снежных вершинах гор ранним утром, например, — наслаждайся. Задумался, как такой цвет можно создать, что с чем надо смешать для этого, — думай. Вспоминай, чему тебя учили в художественной школе. Или когда-то читал.
Похоже? Совсем не то. В живописи, в графике, в скульптуре—в изобразительном искусстве — эмоциональное восприятие. Оно все определяет. Лев Толстой подчеркивал.
Когда читатель знакомится с книгой, вчитывается в содержание, переживает прочитанное — без думанья нет чтения. Вот и вопросы — что, почему, как… В словах, во фразах. Почему и зачем какое-то слово? Что автор хотел именно этими словами сказать? Разве не так? Нет, не лишнее — сказать пару слов о словах. Если не ошибаюсь.
НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ ИТАЛИИ НА ИТАЛЬЯНСКОМ
Так не хочется названия городов в Италии писать и произносить на другом языке. Не итальянском. Не только странно звучит. Но как искажение какое-то. Судите сами.
По-русски еще ничего. Похоже. Часто, но не всегда. Падуя, Венеция, Болонья. Вот Firenze (Флоренция) и даже Roma (Рим), вечный Рим, совсем по-другому звучит. На английском еще хуже. Венеция — Venice, наша Падуя (Padua) — Padova, Неаполь (Napoli) — Naples. Сицилия всемирно известная — Sisily. Произносят «сисили». Поди узнай. Города поменьше английский, видно, пожалел. Verona. Modena, Palermo. Как слышится, так и пишется.
Не грех повторить, по-моему. Что все записано здесь со слов близкого друга. По свежей памяти. Не могут его рассказы пропасть. Столько в них чувства и красоты. Даже не вспомнить, слышал ли что-то похожее. Если и было, сказанное другом можно, надо повторять. Чтобы нам было светлее. Предельно искренние слова. Сам бы он написал куда лучше. Не сомневаюсь.
Происходило путешествие его души в конце девяностых. Время здесь не имеет значения. Душа над временем. У нее свои отсчеты.
Он всегда, насколько его помню с юности, светился, когда говорил об Италии. Он и многие из нас, кто регулярно бывал в Эрмитаже, породнились с Италией. Разумеется, с классической. Италией Возрождения и вообще историей культуры там. И не было никакого «западничества» или «забывания корней» в том, что порой он знал и вспоминал больше имен художников Италии, чем своих, россиян. Это и немудрено. Так сложилась его жизнь, его сближение с классическим искусством. Поэтому он знал, больше чувствовал своими, например, Леонардо да Винчи, Рафаэля или Тициана, чем Рублева или Боровиковского. И видел — в подлинниках или в репродукциях, в альбомах или на диапозитивах — куда больше работ итальянцев, чем мастеров России. Узнавал их сразу. Видел в них больше цвета, света, движения. Как в начале века провозгласили новорожденные футуристы: Luce, Colore, Movimento. Он хорошо помнил, что это все было и до футуристов. Просто они провозгласили это главным. Это кстати.
И сам он «не удержался», по его словам, и после «раскачки» взялся… рисовать. Гуашью, темперой, потом акрилом. Маслом не решался. И оно «пахнет к тому же», он говорил. У него не то аллергия, не то какой-то протест обоняния. «До масла и не дорос».
Рассказывал, что как-то на выставках «неофициальных» художников, что в семидесятые и восьмидесятые то и дело устраивали в квартирах, встречал такую мазню и выпендреж, что воспринял это как вызов. «Challenge, — он говорил. И добавлял: — Если сейчас так модно вставлять английские слова и словечки. Я же только для шутки говорю». Шутки в сторону! Вызов он принял достойно. Неожиданно для него и для всех нас вырвался на волю его талант! Никаких сомнений даже у больших художников не было.
— Почему его талант спал так долго? — спрашивали иногда друг друга. — Он же так много упустил. Считай, потерял навсегда. Почему его не надоумил никто? Задавил живопись своей наукой! Хорошо еще, что остались у него в голове и в душе история живописи и отменный вкус, черт его дери.
Кто из художников, из «классиков на все времена», видел его работы, признавал:
— Да, какой талант!
И странно покачивали головой. Как бы «Ай-ай-ай. Измен* щик!» Один из последних учеников Шагала в Витебске, пожилой мастер, хмуро добавил один раз:
— Чего он боится?! Лепит все на маленькие форматы. Или деньги жалеет на краски? Обязательно скажу ему, когда встречу.
Выставлял несколько своих работ на выставках непрофессиональных художников. В Третьяковской галерее, в Музее истории Ленинграда и в Доме дружбы. Даже одна персональная выставка была. В Доме ученых. На Неве. В двух комнатах. Скромно. Без рекламы. Дюжины две работ. Приходили и коллеги, и художники — из болельщиков. Сам не решался приглашать. В книге отзывов было много восторженных слов и благодарностей. Все читал. Радовался за него. Хотя книга отзывов — не лучшая рецензия. Пишут те, у кого времени побольше, кто не спешит уходить, кто любит оставить свой автограф, застолбить свою оценку, пооригинальничать в письменной форме для прочности.
Только прилетели в Милан из Петербурга. Часа два назад. Прямо с автобуса — в свою гостиницу «Nazione» в двух шагах от вокзала. Въехали на колесиках свои чемоданчики в шкаф и без задержки побрели «познакомиться немножко с городом». Выходишь на большой бульвар. Ведет прямо к центру. Верно сказали в отеле, и карта не наврала.
Поплелись. Веселее не получалось. Жарища и духотища страшные. Ведь не полдень. Около девяти вечера. Уф! Лучше было бы разглядывать из автобуса! Там кондиционер. И в гостинице тянет холодком. Но это лучше, чем жарища. Пока, если верить путеводителю, никаких исторических зданий нет. Хотя в Милане, как и во всей Италии, неисторических зданий, наверно, нет.
Можно и посидеть. Вон там скамейки.
— Присядем?
Сидят по скамейкам какие-то люди. Просто сидят. Дольче фарниенте? Сладкое — милое, еще переводят — «ничегонеде-ланье». Считается, типичная черта итальянцев. Молодцы, итальянцы! Это по-нашенски.
А вот фонарей уличных у них маловато! «Деловая столица страны»! Не все сразу? Но нужны фонари. Не белые ночи! Не Питер.
— Что за чудо!? Пекло. Верно где-то сравнивали с распахнувшейся духовкой! Двадцать девять градусов. Вон под крышей часы. Громаднющие часы. Небось, банк. Куда денешься? Другой погоды в Италии для нас нет. Терпи, казак.
— Какой милый вон тот старичок! Элегантный. Может, киноартист на пенсии? Или бывший — очень бывший — аристократ. Порода! Попробую его спросить что-нибудь. Проба пера! Не говорил по-итальянски с того приезда. Лет пять. Была не была. Не укусит. Он-то меня, может, и поймет. Я его — ой-ой?
Читает «Коррьера дела сера». Главная, кажется, их миланская газета! Во дают! Как плита мягкая. Как ее на руках держать? Он и не держит. На коленях. Не приподнимает даже. Без очков читает!
— Скузи, синьоре! Бона сера!
Он старался произносить немножко «сьера». С очень мягким знаком. Так ему послышалось однажды у итальянских коллег. Чтоб было больше похоже на итальянское произношение. Надеюсь, мое приветствие «Извините, синьор! Добрый вечер!» он поймет. Дальше придется попотеть. Мне. Но и ему. Из вежливости будет стараться меня понять. Услышит же сразу, что иностранец. Как не старайся.
Спросить: «Как поживаете?» Это нетрудно: «Коме стате?» Им, медикам, это было очень близкое. У них есть «статус». «Статус жизни» и «статус болезни». Status vitae и status morbi. И без итальянского, для шутки, иногда баловались:
— Как статируете? Как статируешь?
И все понимали. Кому нравилось, кого раздражало.
Спросить-то можно. А вот как с ответом? Если скажет совсем кратко, как американское «О'кей»? Хорошо, ничего! «Бене!», подойдет. А если чуть больше? Можно оконфузиться перед ней. Вот уж «ня к чаму, так ня к чаму» (из их любимого анекдота).
Была не была. Спросил. Дядя вообще ничего не сказал. Только приподнял плечи. Но так выразительно. Ответил молча. Сразу видно фаталиста.
И свершилось чудо! Они стали лепетать как старые знакомые. Незаметно для нашего, ускоряя и ускоряя. Разогнались. Не чудо? Наш держит фасон. Не сорвался пока.
Она смотрела на него так, как если бы сейчас на ее глазах превратился в живого мамонта или в Марчелло Мастрояни. Откуда такое?! Да, она знала и от него, и от кого-то из коллег, что он в дружбе с итальянским. Даже доклад сделал на конференции в Милане. Злые языки подсыпали:
— Для понта, скорее всего. Не на английском.
Ему было бы куда легче. «По-английски и любой дурак будет. Не хочу остаться в памяти современников и потомков дураком». Частая его шуточка.
— Что нового в Италии, синьор? В мире? Как играет итальянская команда «Квадра азура»? Он слышал от болельщиков в Питере и здесь, в Италии, что если прохожий не среагирует тотчас на имя их национальной сборной по футболу, он точно не итальянец. Можешь и не быть в тиффози. Он знал давно, как и все его приятели в Питере, что «тиффози» — это итальянские болельщики. Да, от «тиф». Болеют, как тифом. Тяжело. Сейчас во всем мире на стадионах и вокруг них болеют с очень высокой температурой.
До бреда, выкриков и дерганья. Сосед на скамейке, верно, вдруг очень возбудился.
— Итальянец! Точно! Раз футбол! Найдем общий язык быстрее. И он будет снисходительнее к своему как бы родственнику по спорту, когда услышит его кустарный итальянский. Хотя наш не был футбольным болельщиком.
Беседа лилась «как за самоваром». В старину так говорили, кажется. Ну и дает наш! Наша обалдела. Раскрыла рот, распахнула глаза, сияет как после экзамена. Он и не думал шармиро-вать ее итальянским. На этом долго не проживешь. Другие магниты у парней посильнее. Но самой ей убедиться не лишнее, что он — не середняк. Не орел, но и не тот из бравых пижонов, что лип к ней у них в институте. По-итальянски вообще никто из них не кумекает. Каши из итальянского не сваришь. Но не валяется.
Наш разгонялся.
— Простите, синьор, у вас здесь, в Милане, всегда такая жара в июне? Я как-то был здесь пару лет назад. И тоже жара.
Чуть не подпрыгивал от радости, что слов пока хватает. Но слова могут в самый неподходящий момент кончиться, и опозоришься. Она бы не подумала, что он горазд только красиво стартовать. Зачем ее разочаровывать?
— Я сказал как-то коллеге здесь, в Милане, что знаю, в Италии такое (не помню, что именно) бывает.
— Нет!
— Но я сам видел!
— Где вы могли такое видеть?
— Да в Риме. Дня три тому назад.
— А-а-а! В Риме? Так Рим это уже не Италия.
— Простите. Не понял. Рим — не Италия? А что?
— Рим это уже Африка.
— А что же тогда Неаполь?
— Это уже Экваториальная Африка.
— А что же Италия?
— Ох, Италии много. Весь север. Любой город. Милан, Генуя, Болонья, Флоренция, Венеция, Падуя. Перечислять можно без конца.
— Но такая жара здесь, на севере.
— И это, синьор, Италия! Она у нас такая разная.
Как такое могло случиться? Невероятно. Говорят иногда: «Одному Богу известно». Здесь наверняка даже Бог сказал бы:
— Тут я, ре|бята, пас. Других дел много. На все и на всех не хватает. В другой раз. Вы уж извините!
Вдруг они стали видеться почти каждый день. Жили в разных концах города. Дороги их не пересекались нигде. Ни в центре, ни в «новых районах». Работали в разных институтах. Никакого сотрудничества. Ни общих проектов. Совсем разные епархии. Ни родственников. Так как же?
Судьба! Бывает разлучница. Бывает и наоборот. Не скажешь же «случница»? Не животноводство!
Они из одной школы. Никогда не видели друг друга. Бывает и такое. Она окончила на четыре года позднее. Оказались в одном институте. Медицинском. Тоже не сговаривались. Из института с разницей, соответственно, в четыре года.
В разных аспирантурах. Она в клинике, в том же институте. Ему повезло попасть в другой, где есть специальности, что ему по душе. У него — «чистая наука». Биохимия. Когда подошел срок ей готовиться к защите диссертации, кандидатской, он уже был «почтенным кандидатом медицинских наук». Кто-то из их профессоров всерьез сказал, что он больше доктор наук, чем кандидат. Стали его выбирать в Ученые советы, назначать оппонентом на защиты диссертаций. Обычно оппонентами бывают люди пожилые, известные. С авторитетом. Диссертанты и их шефы подстраховывались.
Они не виделись. Даже на заседаниях Общества. Она ничего не слыхала о нем, он — о ней. Общих коллег и знакомых у них не было. «Разные континенты», — говорил их учитель биологии в школе. I Iotom услышал, что вышла замуж. Дочка. Он расстался с женой. Сын.
«Все случилось в Доме книги», по ее откровению, пару лет назад. Сказала ни с того ни с сего. Хотела, наверно, что-то объяснить ему пли себе. Почему вдруг появилась «на его горизонте». Воскресла? Поняла вдруг себя?
— После клиники поехали все вместе, две докторши и два доктора из нашей клиники, в Дом книги. Давно не были. Текучка заела. Сначала, как всегда, в медицинский отдел. Вдруг… я буквально остолбенела. 11астоящий шок. Прямо на меня смотрели… твои глаза. Крупно так. В упор. Над прилавком лицом к нам книга «Стресс». И еще что-то там написано. На обложке твои глаза! Не портрет. Одни глаза.
Со мной вдруг произошел какой-то срыв. Нервный сбой. Затмение. Как потеряла рассудок. Один наш сказал, что я заметалась по Дому книги как безумная. Как слон в посудной лавке. Другие согласились.
Друг извинился, что прервал ее, и тихо-тихо спросил:
— А «слон в посудной лавке» — это как?
— Наш аспирант на следующий день, когда пили чай в ординаторской, признался: «Мы за тебя испугались. Что это с ней, чем помочь? Не отвечала на наши вопросы». Что, сошла с ума? У всех на виду. Бывает ведь так.
Что она хотела ему этим слоном сказать? Для чего? Что это значит? И ее рассказ, и само происшествие? Признание новой Татьяны. Не умерла еще романтика?
У нее вспыхнуло что-то к нему? Что сидело столько лет в душе. Нельзя было такому не поверить. Тем более когда душа нашего героя много лет мучительно ждала чуда.
Внутри себя наверняка называли друг друга только с заглавной буквы. Тепло-тепло произносили он — «Она» и она — «Он».
Ее «Он» было даже позаглавнее. И другим, если бы попросили вслух сказать, да в третьем лице, только с высокой заглавной буквы: Он и Она. Только б знать, что этим они хотели сказать сами себе. Тогда бы знать…
Пролетели годы восторга, очарования, «веры, надежды, любви». Он был — застрели его — уверен, что сроднился с ней. Ушла. Просто ушла. Ничего не случилось. Ни ссоры, ни скандала, ни разноречий. Почему? Их общей знакомой через несколько лет бросила мимоходом:
— Прогибаться под него больше не буду! Самая большая неправда. Все ее приезды к нему в институт. Ее к нему! Не его к ней! Все у них было только по ее инициативе. От ярких вечеров наедине до поездок в Тарту. Активная! Если, считает, прогибалась, только по своей инициативе. Сама.
Старался иногда посмотреть на них обоих как бы со стороны. «Со стороны виднее». Задавал и задавал себе вопросы. Ушла. Как будто ничего не было. Как само собой. А как же слон в посудной лавке? Его туда не приглашали.
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЗНАКОМИТ С ХРИСТОМ И МАДОННОЙ
Ему очень хотелось быть для нее гостеприимным хозяином в Милане. В его Милане. Временами он очень хотел выглядеть здесь как старожил. Что-то его притягивало к этой миссии для нее. Предлагал сходить в Пинакотеку Брера — главную картинную галерею города. Щедро расхваливал какие-то картины. Искренне, с душой. Не по долгу службы экскурсовода.
После Миланского собора, где они охали в восторге и от стройных изящных фигур снаружи, и от витражей и величественности абсолютно всего внутри, их «объектом номер один» стал Кастелло Сфорческо (замок династии герцогов Сфорца).
Приехали туда с утра пораньше. Просто сели на метро. Несколько остановок. По схеме города и метро сразу нашли, где выходить и как пройти. Вот и замок. Величественная его панорама. Вошли на площадь внутри.
Наш «гид» от усердия так разошелся, что все время явно перебирал с дозировкой пояснений. И как расцветала династия в XV-XVI веках, и каким художникам покровительствовали, и какие музеи при них созданы. Для ее головки это были, точно, внеземные перегрузки. Но она не подавала виду, как ей труден его «искусствоведческий» марафон. А он, знай себе, старался. Где-то подслушал, что штатные экскурсоводы рассказывали то одной, то другой группе посетителей. И тут он вспомнил. Микел-анджело! Как пропустить! Одна его скульптура «Снятие с креста» стоила, наверно, всего в замке. Может, и во всем Милане. Последнее творение мастера.
У них безжизненное тело Христа. Опускается к земле из рук Мадонны. Она уже не в силах его удерживать. Тело сползает все ниже. Мрамор отесан грубо. Поверхности неровные. Как свежий гипс. Нельзя пропустить этот шедевр великого классика. Не познакомить ее с этим Микеланджело. Но где скульптура? Вернулись в один из залов музея. Ему казалось, что где-то здесь. Нету. В соседнем зале нету. Скоро музей закроют. Когда сюда попадут еще. Караул! Срочно надо что-то делать. Куда идти? Служителей музея нигде не видно. Вдруг он увидел в окно, что по двору проходит девушка-полицейский. Или полицейская? Как надо написать? Тогда было не до названий.
Последний шанс. Как ошпаренный выскочил из музея. Пулей к девушке.
Она в серо-голубой форме. Без фуражки. Так в их полиции можно? Низенькая. Смуглая. Невзрачная. Волосики растрепаны. Не итальянская красавица.
— Скузи, синьорина! Дове эст Микеланджело? (Извините, синьорина. Где Микеланджело?)
Еще раз выручил его итальянский. Благодарил судьбу много раз еще в Италии.
Девушка обаятельно улыбнулась. Так, что они тотчас успокоились. Как рукой сняло. Такая не даст пропасть.
— Прего. Тутто нормале. (Пожалуйста. Все нормально.)
Не может, что ли, говорить не по-итальянски? Видит же, что
иностранцы. По его робкому итальянскому хотя бы. Сказала бы что-нибудь по-английски. Наверняка знает. Не по-русски же. Нет, продолжает по-итальянски. Надо ловить. Не то оконфузишься, не перед одной девушкой, а перед двумя.
— Пошли. Провожу вас. Вон тот вход.
Так гостеприимно и по-домашнему, что могла вообще не говорить. Только проводить.
— Но вы через несколько минут закрываетесь!
Поняла! По глазам видно. И по приглашающему жесту. Не хватало только подхватить одного из нас подмышку.
— Я вас провожу. И побуду с вами, сколько вы хотите. Не волнуйтесь!
Вот это да. Не хуже воспитательницы в детском саду.
Подвела к двери, за которой где-то Микеланджело. Взяла мою спутницу за руку. Милая парочка. Так нагибалась к нам, словно перед ней малые дети. Или старички-пенсионеры. Сама забота. В ее служебные обязанности, ясное дело, не входит. Просто очень добрая девочка. Наверно, из крестьянок. Почему так показалось?
Вошли в зал. Какой-то не очень светлый. Здесь же Христос и Мадонна!
И Микеланджело! Во все глаза гости глядели на Мадонну. Она выбилась из сил, удерживая мертвое тело Христа. Вот-вот оно будет на земле. Ей больше не удержать его. Наше потрясение не передать. Оба потом признались, что были в шоке, что присутствовали при этой трагедии.
Девушка-полицейская тихо стояла в углу зала. Мало заметная. Деликатно затаилась, чтобы не мешать нам. Вот это такт! Врожденный? Служба в музее, рядом с Микеланджело, воспитала? Не суть. Какая милая девушка.
Когда вышли из замка, были такими печальными, словно с кем-то из родных попрощались. Последние посетители. Рядом никто уже не выходил. Выручила нас девушка. Уехали бы из Милана, не повидав Микеланджело.
Долго шли до метро. И тихо говорили о девушке-полицей-ской. Побольше, чем о Мадонне и Христе. И нежнее.
— Вот здорово было бы встретить ее еще раз.
— Где? Мы завтра утром уезжаем в Падую.
— Где-нибудь. Хоть в Риме. Может же она туда случайно приехать за чем-нибудь?
Как-то куце мы с ней распрощались. Сказать бы ей как следует спасибо.
ПЯТНАШКИ НА КРЫШЕ МИЛАНСКОГО СОБОРА
Вряд ли кто не видел, хотя бы на открытках или в альбомах, это чудо. Миланский собор. Как много в нем слилось! Величественность. Стройный. Изящный. Легкий. Полетный. Устремленность к небесам. Большие и маленькие башенки по фасаду. Витражи. Фигуры. Наверно, святые. Кто же еще? Все вместе делает тебя совсем другим, чем за минуту до того, как вошел. Каким-то просветленным, возвышенным. И как будто оторвался от земли и летишь, летишь куда-то. Все поет вокруг. Нет, музыка не слышна. Орган не играет, и хор не поет. Но воздух в соборе звучит. Наверно, это в душе музыка. Витражи такие яркие, что можно фотографировать в темени собора. Отлично получилось бы! Цвета сочные. Снова чудо.
И сколько здесь труда! Только представишь себе этот муравейник скульпторов, живописцев, витражистов, шлифовальщиков стен. Когда собор был уже построен.
И пока строился. Большой муравейник. Идущие гуськом вверх и вниз по мосткам. Рубящие и пилящие камень. Какой грохот стоял! Но наверно, никто никому не мешал. У каждого «свой участок работы». Кто-то за всем этим наблюдал. Контролировал качество и количество… Сейчас сказали бы.
Так и хочется остановиться где-нибудь посередине собора и отпускать поклоны на все стороны. Чему удивляться? На строительстве египетских пирамид муравейник был, конечно, гро-маднее. Когда очутимся там, кланяться будем тоже. За этим дело не станет.
Вышли на воздух, крепко запьяневшими от красоты. А есть ведь люди, местные, миланцы, кто сюда по многу раз приходят. Не только католики. Просто горожане. Мужчины и женщины, юноши и девушки, дети. Эталон красоты. На всю жизнь.
— Давай обойдем его кругом. Еще немножко полюбуемся. Ты по часовой стрелке, я против. Встретимся посередине. Где на циферблате двенадцать. Не спеши. Я буду медленно идти. Любоваться, так любоваться. Идет?
Разошлись по «своему циферблату». Подошли к своей точке. Встретились.
Поезд А и поезд Б. Не разминулись.
— Знаешь, что я нашла? Вон там за углом, сбоку. Дверь. Какая-то маленькая. Человек пять-шесть перед ней. Очередь. Спросила какую-то англичанку. Услышала, как она со своим спутником на английском разговаривает.
«А что здесь такое?» — «А это на крышу, мэм». — «Куда?» — «На крышу». — «А что там?» — «Крыша. Крыша собора, мэм». — «С нее на город смотрят?» — «И на город. Там, написано в путеводителе, много скульптур. Не уместились, наверно, в соборе». — «Большое спасибо. Как интересно. Мы тоже полезем». На старт? — это уже ко мне.
— Что ж. Интересно. И очереди никакой. Не то что перед главным входом. Полезли!
Узкая темная лесенка. Как у нас на чердак. Но оживленно. Туристы вверх и вниз, задевая друг друга.
Вдруг лестница закончилась, но… мы еще не на крыше. Пред-небесник. Как тамбур в поезде. Чуть побольше. Зачем это? Чтоб не сразу влетать в небо?
Мы и на крыше. Нет, не «огромное небо одно на двоих». Небо загорожено скульптурами. Десятки. На каждом шагу. Кто они? Тут не скажешь: «Ба! Знакомые все лица!» Приземлились, ангелы? Окаменели, святые? Здравия желаем, люди добрые.
Почти нашего роста. Лица можно рассмотреть. Почти знакомые. «Не боги, человеки, привычные к труду». Так у Алика Го-родницкого в «Атлантах». Конечно, вспомнили. «Когда на сердце тяжесть \ \ и холодно в груди, \ \ к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди… Атланты держат небо на каменных руках».
Сделали бы какие-нибудь надписи. Правда, у атлантов Эрмитажа тоже нет надписей. Безымянные герои. Неизвестные солдаты. А в Летнем саду есть надписи. Но и там мы не шибко узнавали «Венеру такую-то» или «Аполлона такого-то». Когда-то слышали. Не запомнили, конечно. Но какие-то ассоциации могут возникнуть. Или не возникнуть. А здесь?
Пока бродили по крыше промеж святых (наверно, святые; простых смертных на крышу не взгромоздят!), вспоминали из своих собственных биографий. Опять общее! Как хорошо!
Что видели в разных альбомах (где ж еще?). Разные соборы, всемирно известные. Кельнский. Миланский. Краковский. Внутри и снаружи. Уйма скульптур. Те, что внутри, можно подойти, посмотреть. В путеводителе прочитать, кто такие. Кто и почему создал. Зачем поселили скульптуру внутри собора. А те, что снаружи? На фасаде. На высоте десяти- пятнадцатиэтажного дома! Кто их разглядит с земли? У кого какое выражение лица? Куда и как он смотрит? Какая поза? Подлетит кто на вертолете к ним? Облетит на воздушном шарике? Снизу смотреть? Мощные бинокли при входе ведь не выдают! Скульптор видел статуи еще у себя в мастерской. Ну в музее. Пока не очутились они на космической высоте. А простым смертным как? Альбомы рассматривать? Открытки покупать? Кто вообще видит этих святых с расстояния? Когда можно что-то рассмотреть? Ангелы? Пролетающие мимо собора. Пассажиры самолета? Всю жизнь оставалось загадкой. Где и как ее разрешить?
Других вопросов у молодых людей нет? Кроме как о святых и ангелах на высоте. Прав, выходит, один наш академик, говоривший, что «интеллигентный человек — это тот, у кого в голове всегда много лишнего». Как рассортировать? Что лишнее и что нет. Академик или кого-то цитировал, или не страдал от того, что у него лично в голове маловато нелишнего.
Но святые пригодились. Освоились с ними. Стоят. Нас не трогают. Кислород у нас не отнимают. Так пусть стоят себе спокойно. Не улыбаются нам? Значит, не заслужили. Или еще не разогнались нам улыбаться. А что, хорошо? Помогли нам. Оказалось, за ними легко спрятаться. Если встать бочком. Поближе. Зачем прятаться? На чужой крыше! Свалиться нельзя. Там широко, плотные мостки. Как дорожки в парках. И от края далеко. Туристы — ровными колонками друг другу в затылок. А вольным? Не организованным туристам. Все вокруг просится поиграть в прятки. Отбежал чуток, и тебя не видно. В двух шагах. Где-то здесь, но не видно. А когда уже нашелся, открылся — удирай. Пока туристов не очень много. Какие-то покосились: что тут за перебежки? Крыша! Собор! Да и свалиться можно. Так и играли несколько минут в прятки-пятнашки. Туристы заулыбались и даже подбадривали. Как дети. Стоит завестись. Все-таки зачем здесь, на крыше, понаставили столько святых? Ангелов, летящих мимо, ублажать? Напоминать что-то? Так это ж внутри собора! А здесь? На земле спросили нескольких, правда, не гидов, туристов. Никто не знал. Даже не предполагал.
Все! Теперь домой. В нашу «Национале». Пешком не дойти. Сил не осталось. До метро еще куда ни шло.
— Ой, я и забыла. И у них метро! Ведь сюда ехали. Как во сне была. Так торопилась. Голову в отеле оставила. Хорошо, что не паспорт, не деньги. Метро — наше спасение. Два квартала дотянем.
Вот оно, наше родное миланское метро! И не толкаются. Хотя народу много. Прохладно. Воздух свежий нагоняют кондиционеры. Ладно устроено. Метро не хуже московского. Даже получше. Переходов меньше. И не так глубоко станции. Эскалатор только несколько секунд везет. У нас не меньше трех-четырех минут. Да здравствует интернационал! В борьбе трудящихся за отличное метро.
Завтра в конце дня в Падую. Поездом. С нашего вокзала. Рядом. Три небольших квартала. Как специально вокзал к гостинице подвели. Хорошо все в Италии устроено!
— Нет. Это я все устроила. В Питере. Нам же Оргкомитет конференции ничего не бронировал. Пошла в туристическое бюро. Мне сказали, какое лучше всего для Италии. Там: «Пожалуйста! Заранее все можно. Во всех городах гостиница будет не дальше, чем три квартала от вокзала. Может, маленькая. Не слишком комфортная. Но рядом. И потом — дешевле. У них все гостиницы удобные. Чистенькие. Без излишеств. И всегда рядом с вокзалом. Значит, в самом центре города. Историческом. Самим бродить легко. К тому же в гостиницах при регистрации всегда дают маленькую карту. Или план.
— Ты у нас организатор и вождь — первый сорт! Спасибо огромное, палочка-выручалочка. Я этого всего и не знал. Итальянец!
— Откуда ты мог знать! Ты же всегда только по университетам. Тебя встречали, провожали, размещали. Туристскими фирмами не пользовался. Так ведь? Теперь другой класс! Есть деньги, плати еще в Питере. Все сорганизуют. Птичье молоко в отель доставят. Только плати. Побольше. Им же всем бизнес нужен. На нашем брате, туристах-путешественниках. В следующий раз учти. Все можно заказать в Питере. Хоть верблюдов в Африке. Хоть слонов в Индии. Деньги!
Из городов Падуя — «особая статья». Ближе всех пришлась ему по душе. И коллеги в университете самые сердечные. И ближе других по общему делу — исследованию обмена таких веществ в мозге, которые больше других участвуют в стрессе.
И сам городок за душу берет. Очень уж похож на его любимое Тарту в Эстонии. Где столько лет в долгих наездах работал вместе с фармакологами в университете.
Только вышли на вокзальную площадь.
— Какая черная ночь! Ничегошеньки не видно. Что, у них и с фонарями плохо? Загниваете, капиталисты? Экономят энергию? Еще не включили? Для них одиннадцать вечера рано?
— Темнее, чем у нас на юге!
— Падуя — не юг! У них, в Италии. Юг — это Неаполь, Сардиния, Сицилия.
— Да. Но для нас, северян, питерцев, уже Украина юг. И ночи там темные. «Тиха украинская ночь». И темна, конечно. Как-нибудь разберемся. По карте наша гостиница — прямо от площади. Заблудиться невозможно. Так и пойдем. Считай, с закрытыми глазами. Без компаса.
Что за голоса?! У самого входа в вокзал. Орут. Скандалят? Возбуждены! Как бы нас не зацепили. Агрессивны, слышно. Дуем быстро!
Не слышно, на каком языке. Мельком взглянули на компанию подростков. Человек десять. Кажись, чернокожие. Вот тебе и Италия. На каком языке они? Мало того что не по-русски. Так и не по-итальянски. И не по-английски. Что-то африканское, наверно. Слышно, что под мухой. Или наркоты набрались. Смываться надо! Не хватало нам еще ночью попасть в «международный конфликт». И чемоданы могут дернуть. Быстрее на свет!
Прямо-то прямо от вокзала. Но куда прямо? И туда прямо и туда прямо. И некого спросить. К вокзалу ни одна машина не подъехала. Шпарим отсюда! Повезло, что чемоданы наши на колесиках. Пару лет назад нам худо пришлось бы. С убеганием. За нами, кажется, никто не пошел. Не до нас. Там страсти, слышно, разгораются.
Можно «перейти на шаг». Голоса стихли. Ура!
Вот она, наша улица Корсо. И отель «Корсо». Теперь рядом. Финиш! Живые и здоровые. Довольные? Конечно.
Администратор — молодой человек «очень приятной наружности». Очень приветлив. Улыбка совсем не формальная. Как приятельская. Вот он, высокий класс сервиса.
Первое, что спросили его, — как пройти к Капелле Скровени. Где фрески Джотто.
С утра пораньше начнем, конечно же с капеллы Скровени.
Было раннее утро. Выбежали из отеля. Почему выбежали? Никуда не опаздывали. Не ответили бы, почему надо бежать. Зачем бежали? За чем, за кем? За Джотто!
Сразу налево. Точно, небольшой мост. Каменный, широкий, старинный. За ним слева зеленая гуща парка. Вдаль и не видно. Спереди, как почетный караул, огромные магнолии. В яркой зеленой массе ветвей громадные белые цветы. Как свечи и подсвечники вместе. Сочетание зеленого и белого напоминает что-то классическое. Чудо! Замерли, запрокинув головы к небу. Да-а, здесь еще подходы к Джотто такие красивые. Хоть в капеллу не ходи. Как две экскурсии. Одна к магнолиям. Итальянским. Па-дуанским. Другая, отдельно, внутрь капеллы, к Джотто.
Уже очередь?! Маленькая. Но есть. Человек двадцать. Пожилые и молодые. Итальянская речь. Как-то отрадно стало. За итальянцев. Вот в Милане, в соборе, в Пинакотеке Брера, в замке Сфорца, толпы туристов, судя по виду и по речи, иностранцы. Английская речь. Гиды на английском. Маленьких японцев, в основном пожилых, в шляпках и с зонтиками, ни с кем не спутаешь. Хорошо у них живется пенсионерам! Наших пенсионеров здесь не встретишь! Да и в древних монастырях Руси на Во-логодчине не очень. Все-таки дешевле дорога. Поднимутся наши хоть когда-нибудь «до уровня передовых»? Не будем травить себе душу. Вспоминать наших. Они нас не осудят.
Кто ж не слышал про Джотто?! У самых истоков Итальянского Возрождения. Великий родоначальник! Так можно сказать по-русски? Бог с ней, с историей.
Скорее бы увидеть. Впускают партиями. Как сеансы. Примерно на полчаса. Все хотят насмотреться. За тридевять земель ехали. Даже многим итальянцам не рядом.
Маленькой струйкой медленно втекаем в капеллу. Стоп! «Остановись, мгновение! Ты прекрасно». В школе учили. Неважно, что там про другое мгновенье. Их ведь так много. По всему миру. Одних «чудес света», признанных, часто упоминаемых, сколько!
Десять? Двенадцать? Недосуг выучить. Вхолостую вряд ли надо. Чтоб попижонить эрудицией? Игра не стоит свеч. Нам не надо пижонить этим.
«Гадом буду», как говорили у нас в детском саду. Если это не чудо. Что тогда чудо? Взгляды всех кверху, потом по стенам. В глазах восторг и умиление. Гид, пожилой интеллигентный человек, в темно-коричневом костюме, совсем и не летнем и не парадном, не напирал на красоту, на цвет, на перспективу, на движение фигур. Не расхваливал. Хоть и мог бы. Очень спокойно, без пафоса и громких слов, он изредка делал пояснения. Смотрите, мол, сами. Не буду мешать. Скажу только пару слов, чтобы помочь понять содержание и смысл этих фресок. Тут мы услышали именно то, чего нам недоставало. Его стилем особенно восторгались, перебивая друг друга, когда вышли:
— Вот как надо! Вот бы нашим экскурсоводам в музеях так! Помнишь, последний раз были в Эрмитаже? Так что перед Рафаэлем, что перед Рембрандтом, рассказывали только, кто где стоит, кто на кого смотрит, кто что хотел. Сюжеты! Как история. О живописи и ничего. А этот! Казалось бы, то же — сюжеты. Кто куда идет и кто что говорил из святых. Но! Его рассказы не одно пояснение — за все про все — были о главном. Что в то время — в тринадцатом-четырнадцатом веке — сечешь? — народ у них, почти все, в деревнях и городах, были безграмотными. И что? Читать не могли. Поэтому Библию познавали только в церквях, на службах. Кто расслышит и поймет. Здесь? Всех видишь. Вот они, святые. Идут. Стоят. Разговаривают. Живые! Как люди вокруг тебя.
Живо-пись. Вслушаемся! Живое! Живой художник, современник, сосед. Создает живые картины из жизни святых. Такой рассказ о Библии не мог не раскрывать перед людьми суть событий. Прежде всего, библейских.
Так простые люди знакомились с Библией. Постигали историю религии. Какая падмвга была церкви! Вот что значила тогда живопись Джотт®! Библия! Но это только часть. Джотто — творец куда большего! Живопись Возрождения — от него.
Как хорошо дяденька рассказал. И нам понятно. Повезло, что по-английски. Мог ведь и по-итальянски своим. В общем повезло. Как по заказу.
Так расчувствовались, что хотел прошмыгнуть на второй сеанс. Без обмана. Попросить контролершу. Не вышло. Порядок! Выпрашивать, ссылаться, что мы иЗ далекой России, было бы неприлично. Посидели в парке, напротив Капеллы. Полюбовались магнолиями. Пережили еще раз радость, что судьба миловала КапеЛлу Скровени и фрески Джотто. Здесь же была война. Фронт рядом. Обстрелы. Бомбежки. Никто специально не берег. Не то что у нас, в Пушкине. Одни руины остались. Фашисты специально взрывали, разрушали. В восстановленных дворцах и там, и в Павловске, и в Петергофе до сих пор сохранились стенды с фотографиями — что застали там наши, когда в начале сорок четвертого освободили. Груды кирпичей и камней. Руины. Все были уверены, что теперь уже ничего не восстановить.
Как не порадоваться за Джотто, за итальянцев, за Италию.
Днем официальное открытие конференции. В главном зале их университета. Тоже история. Век шестнадцатый-семнадца-«тый. Один из первых университетов Европы. А они, студенты из самых разных стран, сейчас учатся здесь «как ни в чем не бывало». Чувствуют, наверно, прелесть истории. Все стены этого зала, аулы, как называют с тех времен, в гербах городов, откуда студенты приезжали здесь учиться. Краски — от золота до яркого красного. Гербы! Не пожалели на них. Зато красота!
ИМЕНА И ФАМИЛИИ ИТАЛЬЯНСКИХ КОЛЛЕГ
Как здесь, в Италии, даже обычные имена радуют. Вот президент конференции. Профессор местного университета. Одна из первых, кто стал разрабатывать нашу проблему, нейроактив-ность продуктов обмена веществ мозга — «наших» кинуренинов. Теперь их все знают в мире. Теперь она классик. Вместе со своими сотрудниками в Падуанском университете. Поэтому-то у них и собираются конференции по этой проблеме.
Классик-то классик. Но внешне! Низенькая худенькая тихая женщина. Без всяких украшений. Ей не повредили бы, наверно, брошка или бусики. Говорит по-английски (официальный язык любой международной научной конференции сейчас) вяло и блекло как-то. Но в ответах на вопросы, в дискуссиях кулуарах или в неофициальных встречах участников, обаятельна, элегантна, добра, с теплой улыбкой. Загляденье. Под стать имени и фамилии. Грациелла Аллегри! Переводить не нужно? Хотите, для проверки, посмотрите в итальянско-русский словарь. Грациелла — веселая, бодрая, радостная, радующая благодарящая (grazie — «спасибо, благодарю»). Аллегри — Allegro — 1. Веселый, бодрый, радостный, радующий, 2. муз. Аллегро. Помните, как часто бывало написано в нотах — Allegro vivace.
А вот сопредседатель конференции. Pietro Vinci. Как звучит! Одного Vinci было бы достаточно. Leonardo da Vinci. Что может звучать лучше? Да, тот Леонардо из Винчи, из маленького городка. Винчи. Поэтому da Vinci. Da — из. Откуда этот, наш, не знаю. Не спросил. Pietro. Что ж тут особенного?! И мой отец Петр. Владимирович. И его товарищ — главный конструктор их завода — Петр Никитич. Петр Первый, Великий. Наверно, сейчас рекордсмен по цитированию у россиян.
Но согласитесь, Pietro звучит более торжественно. San Pietro — собор святого Петра в Риме. Центр католического мира. В Ватикане. Папа Римский — главный в этом соборе. Святых Петра и Павла знаем еще с Эрмитажа. Ясно, что профессор Pietro Vinci вызывает ассоциации не менее возвышенные, чем наши Петры. По крайней мере, в Италии.
Если знаменитых русских Петров не хватит, возьмите — Петр Леонидович Капица. Гордость физики и физиков у нас в стране. Высший авторитет в мире. Нобелевский лауреат.
Один из докладчиков. Сотрудник их института в Падуе. Ждете, читатель, сенсации? Сенсации не будет. Просто Карло Росси! У какого ленинградца, петербуржца не защемит? Свое. Родное. Улица зодчего Росси. Главный штаб. Адмиралтейство. Александ-ринский театр. Символы Петербурга. Архитектор? Карло Росси. Белое с желтым. Царит в пространстве. Создает перспективы исторического центра города. Классика XIX века. Портрет города.
Мэр Генуи сказал как-то во время визита в Петербург, что здесь в создателях отдельных домов и их ансамблей больше итальянских архитекторов чем даже во многих городах Италии. Там было и много других. Австрийцев, немцев например. Несмотря на тени Андрея, Моцарта и Сальери здесь, не хотелось уезжать из Падуи. Свой городок. Сроднились. По душе. Будет ли дальше что-то похожее? Хоть впереди и Венеция, Болонья, Флоренция, сам Рим.
В соседнем зале… кафедра. Галилея. Великого Галилея! Неужели та самая? Или восстановлено по старинным документам? На том же, историческом, месте? Нет, все правда. Эта кафедра! Чудом сохранилась. Сплошные чудеса здесь! Только дерево перил подновили чуть-чуть, сказали. Разрешили потрогать. За эти перила мог держаться Галилей! Ошалеть можно! Оба мы были как в шоке. Столько чудес нас здесь встретило.
Все время были вместе. Сидели рядышком. Прохаживались по ауле. Рассматривали гербы. Старались прочитать надписи под ними. Так же, парочкой, встречались с его давними знакомыми. Обменивались парой слов. Нет, не формальные приветствия. Не обмен любезностями. Как-то по-товарищески. «Закрепляли дружбу». Он очень радовался за нее. Так мила, приветлива. Открыта, искренна. Не видно, чтобы смущалась. Ведь первый раз на международной научной конференции. И сразу в Падуе. Среди всемирно известных ученых разных стран. Свободный разговорный английский. Готовый маленький ученый. Международного уровня. Как не порадоваться за нее.
Когда вышли, увидели на площади памятник Галилею. Современный. Темно-серый. Его взгляд. В будущее. Так им понравился этот Галилей. Сохранили его на фотке. Она щедро фотографировала все, что впечатлило больше всего. Что сама выбирала или он просил. У него аппарата с собой в этот раз не было.
И на банкете открытия им было, признались друг другу, очень хорошо, естественно. Без всякого напряжения. Даже среди своих, питерских, было бы похуже. Титулов у нас больше. Должностей. И произносят их на конференциях как-то торжественно. Как приятно чувствовать себя здесь легко и свободно. И коллегами.
Вечерняя Падуя еще романтичнее дневной. Чем-то напоминает декорации не то к Шекспиру, не то к Гольдони. Почему именно к ним? Могли бы вспомнить еще что-то.
Когда «усталые, но довольные» подходили в конце дня к своему «Корсо», лицо ее оживилось. Казалось, так устали, что язык не ворочается и веки слипаются. Ничего не видят. Вдруг:
— Разбуди меня, пожалуйста, завтра пораньше. Хоть немножко поговорим. Пообщаемся. А то все на людях, на людях! Поговорим по-человечески. Как в Питере. Тет-а-тет. А то, как чужие. «Участники конференции!» «Делегаты из России!»
— И спустимся к завтраку. У них же с семи. Спокойной ночи! Я тебя уже жду.
Интонации такие игривые, зовущие. Что это она! Раньше, сколько бы ни было свиданий, всегда как-то спокойнее, без кокетства. Хоть и тепло. А тут, похоже, с места в карьер. Ей и это идет. Талант он и есть талант.
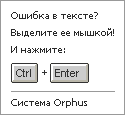


Добавить комментарий