Мир белого рыцаря
МИР БЕЛОГО РЫЦАРЯ
Ах, вы сами в сказке, рыцарь.
Вам не надо роз.
Блок
Однажды великий немецкий математик Давид Гильберт узнал, что его ученик решил стать поэтом. "И прекрасно, — сказал Гильберт, — для математики ему не хватало фантазии".
Это не просто парадокс, выворачивающий наизнанку общее место о рвущейся к небесам поэзии и сухой прозе математики, изучающей факты. Ведь вся суть поэзии — в образах, которые составляют ее мир, и к которым она тем самым привязана. Поэзия неотделима от земного обыденного опыта, образующего действительность. И в этом вся сила и ограниченность поэтической фантазии.
И конечно же, Единорог имел право сказать Алисе, что дети представляются ему сказочными чудовищами. Поэт всегда говорит о чем-то определенном (хотя бы о русалках, единорогах или драконах), но говорить ведь можно и ни о чем, как в "Джаббервоки". Слова в "Джаббервоки", романтической балладе, из которой можно лишь понять, что "кто-то кого-то убил", не играют самостоятельной роли, как и в романе Дж.Джойса "Поминки по Финегану". В них обыгрываются грамматические правила, несущие смысловую нагрузку, но слова не связаны с какими-либо образами.
В этом мире "музыкальной игры" предвосхищена самая суть теоретического подхода современной науки, хотя возможность формальной интерпретации явлений возникла еще во времена Галилея, когда на смену содержательной натурфилософии Аристотеля пришел релятивистский (и поэтому не зависящий от контекста) подход к явлениям, согласно которому все научное знание о явлениях сводится к степени независимости наблюдений от системы отсчета.
Таким образом, собственно теория понимается как система правил (соглашений) о том, какие положения при наблюдении считать "эквивалентными": отождествляются ли "прямо" и "вниз головой" (у Аристотеля это различие было абсолютным), разные положения во времени или, наконец, "лево" и "право". Именно благодаря эксцентрической поэзии Кэрролла стало ясно, что строгое мышление — это искусство воспринимать отношения вещей вне зависимости от самих вещей.
Философы Просвещения верили в "естественную" истину, спрятанную во внешнем мире, но доступную здравому смыслу. В этом смысле геометрия, например, казалась им прообразом совершенного естественного знания о свойствах фигур. Но открытия Гаусса, Лобачевского, Клейна и Пуанкаре помогли понять, что мы не узнаем что-то новое о свойствах пространственных фигур, а вносим новые отношения в изучаемую область. Прогресс науки поэтому состоит не во введении новых терминов, обозначающих открытые явления, а в расширении общности наших утверждений (в увеличении степени независимости высказываний от внутренней сущности явлений). Но это связано с созданием нового языка, основанного на более совершенной грамматике. Таким языком, позволяющим говорить о том, что не вызывает каких-либо чувственных ассоциаций, и является современный математический аппарат. Как в примерах Кэрролла и Щербы, речь идет лишь о структуре, а не о предметах, между которыми устанавливается отношение. Неважно, идет речь об электронах или о "глокой куздре".
Знаменательно, что хотя создатель "Алисы" и был математиком, его достижения в этой науке весьма скромны. Но как Льюис Кэрролл (а не профессор Доджсон) он внес обессмертивший его вклад в развитие теоретического мышления. Именно в ту эпоху, когда он жил и творил, произошла великая революция в математике, окончательно превратившая ее из науки о количествах и измерениях в науку "ни о чем", то есть в теорию отношений. Но профессор Доджсон, как ни странно, обиделся на победу "абсурда", хотя, казалось бы, этот странный волшебный мир должен был бы ему понравиться.
В результате появился не делающий ему чести полемический трактат "Евклид и его современные соперники". (Конечно, об этом никто бы не вспомнил, если бы не "абсурдные" книги Кэрролла, которые стали образцовым примером возможностей интеллектуального видения. Именно поэтому они так часто упоминаются в трудах по теоретической физике.) Язык "интеллектуальной сказки", язык умозрительных образов позволяет представить в компактном, как говорят, в интеллигибельном виде то, что, благодаря математическому языку, воспринимается вне контекста. Но чисто логическое изложение все же само по себе лишено интеллектуальных эмоций, а именно для развития математической идеи важно, чтобы она апеллировала не только к нашему разуму, но и к чувству прекрасного; недаром ведь один из величайших современных теоретиков П.Дирак когда-то написал (эту надпись мелом на стене и сейчас можно увидеть в здании физического факультета Московского государственного университета): "Физический закон должен быть математически изящным".
Именно в своих интеллектуальных фантазиях Кэрролл приблизился к тому странному, вывернутому наизнанку миру, который называет миром современной науки. И дело не в том, что Кэрролл предвосхитил в своих сказках многие достижения современной теоретической физики.
Например, в связи с "Зазеркальем" вспоминают теорию, разработанную в 1956 году А.Саламом и независимо — Л.Ландау. Теория Салама — Ландау (закон сохранения комбинированной четности) объясняла феномен нарушения зеркальной симметрии при некоторых взаимодействиях элементарных частиц, когда процесс, являющийся в начальной стадии развития зеркальным отражением другого процесса, развивается иначе, чем исходный. Эта теория утверждает, что если в ходе процесса, являющегося в начальной стадии развития зеркальным отражением другого процесса, заменить частицы на античастицы, то он будет развиваться, как исходный.
Киске может повредить "зеркальное" молоко, ведь коснувшись "антимолока", котенок может погибнуть превратившись в свет.
Красная королева в "Зазеркалье" говорит, что в их стране надо бежать, чтобы оставаться на месте (для того, чтобы покоиться в "движущейся" системе отсчета, надо бежать). Эддингтон видел в этом намек на открытое в двадцатых годах нашего столетия явление "разбегания галактик". Розина озорная дорожка, по которой Алиса никак не могла подойти к Красной королеве ("здесь ближе идти в обход"), по мнению многих — намек на неевклидову геометрию. И в этом нет ничего удивительного.
Ведь, как мы уже сказали, теоретическое мышление возникло еще во времена Галилея. Он впервые релятивистски подошел к проблемам механики, описывая все свойства систем в терминах инвариантности относительно некоторого класса преобразований систем отсчета. Релятивистское мышление Кэрролла свидетельствует не о предвосхищении теории относительности Эйнштейна, а о глубоком понимании классической механики, столь же релятивистской, как и специальная теория относительности, с той лишь разницей, что принцип классической относительности (то есть степень общности теории) гораздо уже.
Примеров предвосхищений можно было бы привести великое множество, но мне кажется, что дело не в этом, а в самой невозможности представить себе существование "другого" мира, не соответствующего нашему чувственному опыту. Ведь люди тысячелетиями верили, что разум открывает истину, очевидную для чувств. Правда, уже античные математики перестали верить в очевидность, как, например, верили древние индийские математики, которые считали доказательством построение фигуры, соответствующей данной теореме. Именно попытки доказать очевидный постулат о параллельных прямых привели Лобачевского к пониманию того, что из "дикого" (с точки зрения привычного видения мира) постулата: "Через точку можно провести по крайней мере две линии, параллельные данной", можно вывести столь же непротиворечивую геометрию, как и евклидова. Вначале она казалась чисто логической игрой, неосуществимой вне нашего разума (поэтому Лобачевский называл ее "воображаемой"), но в дальнейшем было доказано, что она столь же реализуема, как и евклидова, то есть допускает евклидову модель. Иначе говоря, отождествляя объект неевклидовой геометрии с некоторыми элементами евклидовой (например, хорды в круге именуются прямыми, а непересекающиеся в пределах круга хорды — параллельными прямыми), мы реализуем в этих терминах аксиоматику Лобачевского (ведь теперь через точку можно провести более "одной прямой, параллельной данной").
Как и у Кэрролла, возникает искусственый мир, в котором все обитатели связаны особыми, странными правилами игры. Замечательно, что новым языком можно пользоваться именно благодаря изъятости его объектов из мира "естественной" элементарной геометрии. Только лишь этот искусственный характер моделей для зеркального царства "воображаемой" геометрии и приводит к реализации неевклидовой структуры в рамках евклидовых объектов, то есть такая реализация лежит именно по ту сторону зеркала.
Для естественного подхода к геометрической реальности, характерного, например, для индусов, это было так же немыслимо, как перевод "Джаббервоки" на язык картинок.
И это волшебное царство отнюдь не хаотично. Именно ввиду его изъятости оно музыкально. И эта стройность и согласованность придают миру "зазеркалья" что-то от старинной музыки, с ее призрачной ясностью; кажется, что фигуры сказки-игры танцуют менуэт.
Но хотя в уже упоминавшемся эссе Честертона традиционная и "зазеркальная" сказки противопоставляются, Андерсен, несомненно, знал о существовании царства Алисы, хотя неизмеримо лучше чувствовал себя в мире традиционных сказочных образов, по эту сторону зеркала, где живут "нормальные" эльфы и русалки. И в его видении "зеркального царства" чувствуется страх перед ним: "Холодно было здесь, пусто, мертво и величественно… Снежная королева говорила, что ее трон стоит на зеркале Разума, самом совершенном зеркале в мире… Кай играл с остроконечными кусками льда— это называлось "ледяной игрой разума". В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первой важности. Ему так казалось оттого, что сердце его превратилось в кусок льда, и в глазу его сидел осколок волшебного зеркала". Из льдинок Кай мог складывать разные слова, но никак не мог сложить слово "вечность". В этом — суть критики теоретического знания романтической философией. Вечность недоступна сухому логическому разуму, воспринимающему не действительность, а что-то искусственно возникшее в сознании теоретика. Поэтому нераздробленный логическими операциями мир (то есть вечность) постигается лишь непосредственным чувством, от которого тают твердыни Снежной королевы, и ледяные цветы становятся живыми. Но люди с застывшим сердцем, люди интеллектуальных эмоций, к непосредственному чувству не способны.
Из ледяного плена их может освободить лишь любовь, разрушающая искусственное царство культуры. По Руссо именно чувство восстанавливает утраченную миром естественную гармонию (естественное право человека, основанное именно на чувстве, а не на разуме).
И вот оказывается, что романтический поэт Андерсен дрожит от холода в "зеркальном царстве", где защищенный от всех внешних невзгод Льюис Кэрролл чувствует себя как дома, и это действительно родной его дом.
Видимо, "ледяная игра разума" требует огромного интеллектуального мужества. Способность следовать выводам, не пугаясь следствий, какими бы дикими они не казались, вытекает из иронии, образующей для своего повелителя некоторый внутренний сказочный мир, устроенный по своим законам, то есть мир "музыкальной" игры. Это и есть подлинный дух детства, дух увлекательной, эмоционально насыщенной жестокой игры. Игра эта чужда сентиментальным поправкам к логике, идущим от традиционных поэтических представлений (то есть от мифологии), неизбежным у всякого романтического поэта, чья фантазия по сути своей всегда тради-ционна. Но блестящий и упоительный мир предъявляет к своим обитателям жесткие требования. Поэтому книги Кэрролла и других поэтов эксцентрической игры, хотя и бесконечно остроумные, редко бывают веселыми. "Ледяная игра разума" часто оборачивается против своего адепта. Ведь натуры, проникнутые духом иронии, всегда стремятся, говоря словами Омара Хайяма, "разломать мир и вновь составить его по своему желанию". Но видеть изнанку мира иногда грустно… И так часто эксцентрические шутки Кэрролла заканчиваются сценами, исполненными высокой поэтической грусти. Достаточно вспомнить образ Белого рыцаря, которого Кэрролл, видимо, отождествлял с собой. И хотя этот глуповатый добрый неудачник с его величественным стоицизмом и нелепыми "изобретениями" конечно же смешон, он остается в памяти Алисы поэтически-прекрасным. Это вообще поразительное место в "Зазеркальи". Именно здесь Алиса подходит к границам "зеркальной игры" и смотрит, уже не фигура, связанная внутренними правилами, а Прекрасная дама Кэрролла, вслед одинокому всаднику. И "музыкальная" сказка, соединяясь с лирическим элементом, возникающим впервые на границе "игры", остается с нами навсегда.
Собственно, здесь и возникает впервые идея двух сказок, и лирическая неизменная Алиса дополняет Алису — фигуру академической игры. Игра присоединяется к традиционному повествованию, сохраняя музыкальность и поэтичность центрального образа.
К содержанию книги "Огненный лед"
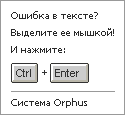


Добавить комментарий