55. Тревога – неизменный спутник гипоталамических поражений.
Уже в самом начале исследований мы – я и мои сотрудники – обратили внимание на то, что практически постоянно вначале гипоталамических расстройств наблюдается тревога. Большая часть психических нарушений формировалась на базе тревоги или, по крайней мере, с её участием. Тревога, которая возникает без патологии мозга, связана с нарушением взаимодействия системы человек-среда и может существенно меняться в зависимости от характера этого взаимодействия. Тревога, которую мы наблюдали, непосредственно генерировалась некоторыми гипоталамическими структурами и не могла быть устранена с помощью преодолевающего поведения. Купировать эту тревогу обычно приходилось с помощью психофармакологических средств. Если же по той или иной причине психотропные средства не применялись, тревога развивалась по определённым закономерностям.
Думая о том, является ли тревога феноменологически единой, я вспоминал, что этот вопрос первым поднял философ экзистенционалист Кьеркегор, который считал, что тревога не привязана ни к какому конкретному объекту или ситуации, является экзистенциальной, т.е. неотъемлемой от самого существования человека. Если же тревога связывается с каким-либо конкретным объектом или ситуацией, её экзистенциальная природа меняется и такого рода тревогу Кьеркегор называл страхом. К сожалению, Кьеркегор умер в 1855 и его нельзя спросить, как реализуется экзистенциальная природа тревоги – через генетические механизмы, в период прохождения через сложные и часто болезненные родовые пути, при переходе от комфортного внутриутробного мира в опасный и изменчивый мир, который новорожденный разделяет со многими другими людьми, будет ли уровень тревоги одинаков у людей, родившихся обычным путём и у людей, родившихся путём кесарева сечения. И насколько правомерна гипотеза И. Великовского о том, что все ныне живущие люди потомки уцелевших при вселенских катастрофах.
В психиатрию понятия страха и тревоги ввёл крупнейший учёный, философ, психолог и психиатр Карл Теодор Ясперс и деление на страх и тревогу стало вскоре общепринятым. Хотя это был не единственный подход. Сохраняя деление на тревогу и страх, Польдингер считал тревогу тем же страхом, но «тонко размазанным».
Я интересовался тревогой давно, ещё в Лениногорский период, обращая внимание на динамику развития тревоги и считая, что феноменологические деление на тревогу и страх явно недостаточно, чтобы описать её становление и развитие. Тревога представляет собой охранительный механизм сопоставимый с болью. Но в отличие от боли, возникновение тревоги не требует непосредственного воздействия повреждающего агента на организм, тревога может возникнуть при представлении субъекта о наличии угрозы или о возможности появления угрозы в будущем. Таким образом, можно полагать, что человек это единственное животное, которое может умереть в результате того, что никогда не наступит.
Тогда я впервые пришёл к мысли, что тревога представляет собой единый механизм, который имеет различные феноменологические проявления. На гипоталамической модели мы достоверно установили, что эти феноменологические проявления образуют тревожный ряд и что в этом ряду те или иные феномены тревоги сменяют друг друга в определённой последовательности.
В коротком перечислении это будет выглядеть так:
1) ощущение внутренней напряжённости
2) гиперэстезические реакции
3) свободноплавающая тревога
4) страх
5) ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы
6) тревожно-боязливое возбуждение или тревожно-боязливый ступор
Я счёл необходимым привести это описание ряда для того, чтобы более ясными были мои воспоминания о некоторых моих пациентах.
Исследование гипоталамических расстройств у одной из моих пациенток, которую я длительно наблюдал, показало, что тревога у неё начинается с чувства напряжения, которое ещё не содержало в себе элементы угрозы, но создавало у неё ощущение, что такая угроза может возникнуть в будущем. В это время её в большей степени беспокоили вегетативные реакции: чувство сердцебиения, отдышки, потливости. В поликлинике, где она наблюдалась, ей поставили универсальный диагноз вегетативно-сосудистой дистонии, но в связи с отсутствием результатов проводимого лечения, направили её ко мне на консультацию. Характер жалоб на момент, когда она пришла ко мне, несколько изменился, она жаловалась в основном на раздражительность, на то, что совершенно незначимые вещи, которые она всегда воспринимала как нейтральные, вызывают у неё чувство напряжения, а иногда интенсивность обычных раздражителей резко возрастает. «Вам трудно это себе представить, но простыня гремит как трамвай» — говорила мне эта пациентка. «На работе в соседней комнате печатали на машинке, машинка была необычно громкой. Я заходила к соседям и просила, чтобы печатали потише, но они, вероятно, не обратили внимание на мою просьбу, громкость не менялась». Ей становилось трудно работать, она работала редактором в специальном журнале и когда работа над журналом сопровождалась необычной силой обычных нейтральных раздражителей, она теряла представление о том, что же важнее. Заинтересованность гипоталамических структура выражалась термическими кризами, которые не снимались жаропонижающими средствами, а при лабораторном исследовании – увеличением продукции катехоламинов и ускорением их обмена. Применение психотропных средств, относящихся к корректорам поведения, длительные сеансы когнитивной терапии, позволили вернуть ей работоспособность и на некоторое время пациентка исчезла из поля моего зрения.
Она появилась через год, но характер её жалоб уже изменился. Она чувствовала постоянную тревогу и не могла найти ей объяснение. Иногда ей казалось, что её тревога связана с трениями в отношениях с мужем, но тревога оставалась даже тогда, когда эти отношения казались идеальными. Иногда она думала, что тревога возникает потому, что нужно готовить важный отчёт, и она боялась не успеть, но отчёт был закончен и благополучно сдан, а тревога оставалась. Большую же часть времени она просто чувствовала тревогу, которая ни к чему не привязывалась и создавало ощущение угрозы, пациентка не понимала какой характер носит угроза и когда она может реализоваться. Затем пациентка обнаружила, что задыхается в метро, лифте, любом замкнутом пространстве, и обратилась ко мне. Поскольку в это время отмечалось уже довольно выраженное снижение настроения, к ранее проводимой терапии были добавлены небольшие дозы антидепрессанта, а психотерапия приобрела определённую направленность. Пользуясь тем, что пациентка относилась ко мне с большим доверием, я предлагал ей поехать вместе в метро или подняться на лифте в центральном здании МГУ. Это удавалось, но повторить это вне моего присутствия она не могла. Сеансы психотерапии мы сделали ежедневными, дозы психотропных препаратов несколько повысили, но таким образом, чтобы не выйти за пределы первого психофармакологического окна. Не реже, чем три раза в неделю мы проводили практические занятия по пользованию метро и лифтом. Пациентка стала значительно спокойнее, исчезли вегетативные расстройства, которые всегда сопровождали пребывание в замкнутом помещении и спустя месяц она мне сказала, что уже ездит на работу на метро и что можно сделать наши встречи более редкими. Я считал терапию успешной, но неожиданно (через полтора года) пациентка позвонила мне в 2 часа ночи (ей было дано такое право), и сказала, что ей очень страшно, что должно произойти что-то непоправимое и с этим, вероятно, уже ничего нельзя сделать. Ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы, которая сменила у неё страх, симптом опасный, который может привести к неадекватным действиям и даже к суицидальным попыткам с целью уничтожить невыносимое ожидание неотвратимой катастрофы, и поэтому на этот раз я предложил ей госпитализацию. Меня удивила её фраза: «Доктор, мне уже ничем нельзя помочь. Сделайте что-нибудь». Потом фразы такого рода мне приходилось слышать неоднократно. Уже в стационаре выражено углубилась тревожная депрессия и очень осторожно, желая не перейти границу терапевтического окна, я несколько увеличил дозу антидепрессанта. Но больше всего эту симптоматику уменьшало моё возможно более частое присутствие. Именно тогда я пришёл к выводу, что если результата не удаётся достигнуть, то врачу не хватило либо необходимых средств, либо квалификации, либо времени (в другом случае терапия оказалась недостаточно эффективной, так как пациентке требовалось всё моё время, а этого я не мог ей дать).
Пожалуй, в первый раз я проводил такие длительные и ежедневные сеансы когнитивной терапии. Предшествующий опыт не давал никакого эффекта, ей нельзя было сказать: «У вас уже было такое состояние, оно миновало и ничего не случилось». Зато длительный анализ ситуаций, автоматических мыслей, связанных с ними эмоций и возможных прогнозов позволил получить достаточно быстрый прогресс в лечении. Пациентка провела в стационаре около месяца и ещё почти год наблюдалась у меня амбулаторно. Страхи и ощущения возможной катастрофы удалось устранить, и хотя ощущение напряжённости периодически возобновлялось, пациентка уже не считала необходимым продолжение стационарной терапии. Ещё год мы проводили с ней еженедельные психотерапевтические сессии, потом сделали их более редкими и наконец она сказала, что предпочла бы просить меня о проведении такой сессии, если она сама почувствует, что у неё есть в этом необходимость. Больше она не появилась в поле моего зрения, но длительный опыт научил меня тому, что если пациент не показывается в поле зрения, значит ситуация благополучна, ибо если она становится неблагополучна, он показывается обязательно.
Если проследить описанное течение болезни, то можно, вернувшись к проблеме тревожного ряда, отметить, что этот ряд проявлялся классически – вначале было ощущение внутренней напряжённости, потом гиперэстезические реакции (простыня, гремящая как трамвай и невероятно громкая пишущая машинка, затем – свободноплавающая тревога, потом страх замкнутого пространства, и, наконец, ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы.
Если тревога нарастает очень быстро, трудно проследить все элементы тревожного ряда, хотя при тщательном опросе иногда (но не всегда) это удаётся. Однако может случиться, что пациент не в состоянии воспроизвести предшествующие элементы и сразу начинает говорить о страхе и неотвратимости надвигающейся катастрофы, хотя на этом фоне могут наблюдаться симпатоадреналовые кризы, которые проявляются в частности в психопатологическом синдроме получившем название «атаки паники».
Выраженные эмоциональные реакции на нейтральный раздражитель могут наблюдаться даже тогда, когда нет ощущения усиления его интенсивности. Один из моих пациентов длительное время ощущал непонятное ему самому ощущение внутреннего напряжения, к которому потом присоединились гиперэстезические реакции. Он жаловался мне, что уже много ночей не спит из-за того, что в расположенной над ним квартире из крана капает вода. Он пытался объясняться с хозяевами этой квартиры, они уверяли его, что кран в порядке и вода не капает, но он слышал эту каплю и от этого невозможно было избавиться. Он накрывал голову подушкой, но это не улучшало ситуацию, потому что из-под подушки он невольно старался услышать, как упадёт капля. Гиперэстезические реакции нарушают дифференцировку значимых и незначимых стимулов. Падение капли воды, которое не требует никакого вмешательства, и звон разбитого стекла, который обычно такого вмешательства требует, воспринимается одинаково нестерпимо. Таким образом изменяется избирательность реагирования, сглаживаются различия между сигналом и фоном. Я видел, как усиление реакции на обычно незначимый стимул, появление эмоциональной окраски обычно нейтральных восприятий делают ситуацию неструктурированной и растерянный пациент тщетно пытается отличить значимое восприятие (оно может быть названо сигналом) и восприятие незначимое, которое определяет фон. У данного пациента тревожный ряд не был представлен всеми своими элементами, а ограничился ощущением внутренней напряжённости и выраженными гиперэстезическими реакциями.
Как-то раз меня попросили проконсультировать высокопоставленного человека, имеющего генеральский чин, который испытывал страхи несколько необычного для меня содержания – он опасался похищения каких-то секретных документов, рассказывая при этом о их содержании. А когда страхи сменились ощущением неотвратимости надвигающейся катастрофы, она имела ту же фабулу, только похищение представлялось неотвратимым и неотвратимым представлялись страшные последствия для него самого и для организации, в которой он работал. Я хорошо знал человека, который пригласил меня на эту консультацию и я спросил его, буду ли я вести этого пациента. «Вряд ли, — сказал он мне, — мы, вероятно, госпитализируем его в нашу собственную больницу». Перед тем, как я ушёл, меня спросили о том, можно ли рассчитывать, что в течение какого-либо краткого времени генералу можно вернуть самоконтроль, когда он не будет так подробно рассказывать о сути своей работы, а сможет её без особых рассуждений делать. «В принципе это возможно, но на это может потребоваться год, а может даже два». Меня поблагодарили за консультацию и мы расстались.
Через месяц я спросил его – «Как генерал?». «Понимаете, — сказал он мне, — мы все очень огорчены, произошёл несчастный случай, нижняя челюсть у него была вставная. Во сне он подавился ею и задохнулся». В течение моей работы с гипоталамическими патологиями у меня было только два смертельных случаев. Один из них был связан с опухолью гипоталамической области, второй – с нарушением контроля, который привёл к несчастному случаю. В данном случае, мне удалось наблюдать только два элемента тревожного ряда – страх и ощущение неотвратимости катастрофы. Подобная ситуация возникает тогда, когда тревога развивается так быстро, что промежуточные элементы тревожного ряда трудно или почти невозможно заметить.
Предыдущая запись
Следующая запись
Posted in Без рубрики
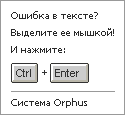


Добавить комментарий