И.П.Лапин «Задушевная Италия». Часть 4
«Остерегайтесь "черных стрижей" на черных моторино!»
«Цыган не бойтесь! Они у нас теперь смирные».
Вот дословный рассказ друга.
Без всяких предвестников распахиваются сразу несколько входных дверей и… Вмиг выросла плотная маленькая толпа. Человек тридцать. Как клумба в центре зала. Без цветов. И держатся как-то группками. Оживленно беседуют. Громкие голоса. Кто-то рассмеялся. Слава богу, мрачная тишина исчезла. Что дальше? Кто эти люди? Все в Рим? Провожающие. На регистрацию не расходятся. Да и где регистрация? Нет никакой. Ни единой стойки. Ни одного транспортера для чемоданов. Никогда не видел такое. А вы видели?
Центр клумбы чуть разрядился, и… не может быть! Громыко. Андрей Андреевич. Министр иностранных дел. По портретам на демонстрациях, по репортажам на телевидении отлично знаем.
Характерное лицо. Ошибки не может быть. Летит в Италию? Как я. Ничего себе! Куда попал. Если ошибка какая, быстрехонько завернут.
Уже в Риме загадка разрешилась. Да, официальный правительственный визит министра иностранных дел в Италию. Плюс, понятно, и «другие официальные лица».
Но до Рима еще надо долететь.
Стюардесса проводила пассажиров в самолет. Громыко и всю его свиту сначала. В задний салон. Тогда считалось, что в этом самолете в хвосте безопаснее и удобнее. И шум моторов потише.
Нас, простых смертных, было всего три человека. Те двое кто такие? Как попали в пассажиры правительственного рейса? К концу полета разговорился с одним из них. Нет, не шишка, не дипломат. Инженер. Летит в Турин, на «Фиат», что-то согласовывать. Кто второй — не знаю. Простых смертных стюардесса посадила в передний салон. В большом просторном салоне всего три пассажира. Везет же! Чудеса продолжаются.
Посадка. Остановка. Моторы заглохли. Приехали. Подхожу к ближайшей двери. Маша, стюардесса, еще больше улыбается. Рукой показывает, что «все правильно», что стою, где надо. Обошла меня так элегантно. Встала передо мной. Открывает дверь.
— С приездом! Вот и Рим. Счастливого пребывания. Минуточку подождите. Трап подают.
Свежий воздух пахнул с «улицы». Как хорошо! И солнце подсветило торжественный момент.
Ступаю на трап. Внизу трап окружен огромной толпой кинооператоров. Десятки камер, юпитеров. Все возбуждены. Улыбаются. Все камеры направлены на меня. Больше не на кого. На трапе я один. Вязкий шумок от этих камер. Как жужжание облака пчел.
Что происходит? Вас, читатель, когда-нибудь, где-нибудь так встречали? За кого они меня принимают? Опять «Ревизор»? Шуточка про ревизора пришла, естественно, потом. На трапе было одно смущение. Без приправы. Что творится? На весь мир покажут! Не обобраться неприятностей.
За Громыко приняли? Представлял себе, какое изумление было у бедных журналистов. Настроены на такое важное событие. Готовились к нему долго. Информационные агентства и газеты ждут свежайшего репортажа. «Работают все радиостанции Советского Союза», — объявляли с пафосом у нас. Когда прилетал важный государственный деятель.
Потом, уже в городе, вспомнил «очень похожий кадр». Из знаменитого фильма Чарли Чаплина. Не помню, как назывался. Торжественное открытие какого-то памятника. Народ ликует. Толпа. И вот момент открытия. Медленно стягивают белое покрывало. Показались голова, плечи фигуры. Покрывало продолжает сползать, и вдруг… В этом «вдруг», в контрасте с ожидаемым, которое вот-вот наступит, вся прелесть чаплинской находки. На коленях у огромной каменной тети лежит, свернувшись в клубочек, и спит маленький человек. В черной одежде. Были ли его знаменитые палочка и шляпа — не помню. Они ничего бы не добавили здесь, думаю.
Кто здесь, в Риме, был сценаристом, кто режиссером? Жизнь! Лучший и сценарист, и режиссер. Ловко придумано. Первые кадры — на поле аэродрома «Да Винчи» шумно собираются бесчисленные журналисты. Толпа гудит. Следующий кадр — в небе самолет. Крупным планом — снижается. Бежит по дорожке. Камера возвращает нас на поле. Все стоят с вздернутыми к небу головами. Замерли. Подают трап. Открывается люк самолета.
Из темноты самолета на яркий свет наконец-то появляется фигура. Жмурится от солнца. Напряжение ожидания достигло пика. Тут можно и какую-нибудь торжественную музыку вставить. Что-нибудь из Верди (приезд в Италию!). Например, марш из «Аиды». На смену ему что-нибудь из Глинки (министр из Russia). Камера наплывает на голову. Она в серебристой раме фюзеляжа. Лицо! Растерянный взгляд. Испуг на лице министра. Стоп! Все замерло. Кульминация!
Это не министр Громыко! Что случилось? Сменили Громыко? Реже всех министров в СССР сменяли. Очередь все же подошла? Смена правительства в СССР? Прилетел не министр иностранных дел, а его заместитель? Срочно назначенный. Не успели известить прессу? Не тот рейс встретили? Где тогда тот? С Громыко? Куда перетаскивать аппаратуру? Успеем ли? Другие обгонят. Здесь, у трапа, были первыми. Какими очутятся там? Еще одна финальная сцена из «Ревизора». Но там гений Гоголя. А здесь просто накладка.
Пассажир замер на трапе. Ни вниз, ни обратно в самолет. А что бы делали вы?
Камера медленно-медленно переводит кадр на хвост самолета. К нему подъезжает еще один трап. Поменьше. Наверно, тот, что используют для гостей попроще. Люк не открывают. Заминка?
Часть толпы корреспондентов уже бросилась ко второму трапу. Скоро оказалось, что фальстарт.
Что же происходило? Из самолета кто-то (не видно, кто) поманил двойника Громыко. Двойник вернулся в самолет. Камера показывает лица корреспондентов. Растерянность. Снимать? Не снимать? Пропустишь свеженький кадр. Новейшую информацию. Музыку выключили. Предгрозовая тишина.
Что в самолете? К двойнику подбегает в панике Машка. Так кто-то в полете назвал эту стюардессу. Наверняка блатная. Без мощного блата кто бы взял в стюардессы такую непривлекательную толстушку. И лицо как у бабы для съемок фильма «про деревню». Какая-нибудь министерская дочка. Или какой-нибудь шишки из ЦК.
— Какой ужас! Трапы перепутали. Черти итальянцы. И люки. Их же известили заранее, что министр будет в хвостовом салоне. К нему и трап надо было подать. Скандал!
Пожалуйста, быстренько садитесь на какое-нибудь место. Освободить проход. Чтобы Андрей Андреевич быстрее прошел на выход. Трап ведь пуст. Там все в панике. Куда делся министр? Извините!
Молодец стюардесса. Успела извиниться.
Через несколько секунд пошли кучно Громыко и его свита. Наш герой, как единственный, кто сидел у выхода, попался Андрею Андреевичу на глаза. Он остановился, приветствовал кивком незнакомца и… неожиданно (по крайней мере, для своего нечаянного двойника) сказал:
— Здравствуйте! В Рим? По делам?
Вот она, опытность дипломата. Не растеряться нигде. Сохранять достоинство.
И про приветливость не забыть.
Обернулся к свите:
— С приездом! Ну, пошли потихоньку.
Звучало просто и естественно, как дома в коридоре. Дипломат! Вышел на трап. Камеры опять застрекотали.
Как получилось в конце концов на экране, не видел. Понятно, что кадры с «двойником» на трапе вырезали. Начали сразу с Громыко. Здесь документальная съемка. Не продолжение чаплинских фильмов?
В иллюминатор видно, как от здания аэровокзала по полю двинулись цугом встречающие. Впереди министр иностранных дел Италии. Лицо известно по газетам. Встреча состоялась. Да здравствует советско-итальянская дружба!
Дружба дружбой, но никогда'не догадаться, чем закончился этот прилет в Рим «в компании» с Громыко. Свистом шальной пули у виска. Нет! У нашего молодого доктора.
Серьезно! Слушайте.
Когда «размещение в гостинице», как говорят и пишут туристические фирмы, было закончено, была почти полночь. Поздновато куда-нибудь идти. Но Рим! Первый раз в жизни! Грех — прежде всего перед собой — пропустить время. Беру с собой только карту Рима, что выдали в холле, немножко лир на всякий случай (покупки ночью исключались!), и вперед. В ночь? В темень улиц? В незнакомом городе? Незнакомом? Знаем его по фильмам всю жизнь. Одному? Все понимаю, но Рим!
На карте сразу увидел, что нахожусь в самой северной части города. Маленькая площадь, где мой отель. Вниз длиннющая стрелка, как на гигантском циферблате, до самого центра, до Колизея. Нигде не отклоняется. Значит, можно идти. Не собьешься с пути. По масштабу километра три-четыре. Солдатский шаг сколько? Пять километров в час? Здесь — не солдатский. Значит — чуть больше часа. Рим стоит того. Не только Париж стоит мессы.
С уличным освещением у них не ахти. Очень даже не ахти. Почти темно. В центре, уверен, освещено лучше. Подсветки. Ярко освещены исторические здания, площади, улицы. Вперед!
Иду. Каждый метр интересен. Каждое здание красиво. Наверняка исторические попадаются. Без путеводителя не определишь. Все интересны. Рим не деревня.
Пока шел и приближался к центру, верно, становилось светлее и светлее. Ярко перед кинотеатрами, витринами больших магазинов. Все красиво. Спешить не буду. Все равно не сплю. Отосплюсь завтра. Да и спать особенно не хочется. Перебил Рим сон. На бульварах на скамейках полно народу. Пожилые солидные дяди. Многие читают газеты! Под фонарями совсем светло. Посреди ночи. Южной темной ночи. В Риме все, наверно, вечно. Не только столетия, но и время дня. Вечный день! Нет разницы между днем и ночыо. Читают газеты, смеются на верандах ресторанчиков, разгуливают по улицам. Беспрерывная, без-перерывная жизнь. Вековой стиль? Или на Западе всюду так?
Почему не попробовать? На газету хватит. Вон в киоске ценники. «When in Rome, do as Romans do» (Когда в Риме, делай как римляне). Купил самую известную мне по названию газету. «Corriera de la sera». (Миланская.) Читал, что она самая богатая информацией. С какой-то надо начать. Во дают! Толстенная. Тяжелая. Страниц пятьдесят. И это газета? Не сдрейфим. Почитаем. Хоть заголовки. Тут ни большого света, ни особых знаний не надо. Ну и ну! Чего в ней только нет. На первой странице крупно — «Первый после войны визит министра иностранных дел СССР в Италию!» «Наши надежды на потепление отношений». Много еще «хороших» восклицательных знаков. Но тут же и «Верните сыновей их матерям!», «Где тысячи пленных итальянских солдат?», «Когда СССР выполнит послевоенные обязательства?».
Это откуда взялось? Какие пленные? Какие обязательства? На других страницах этой же газеты встретил разъяснения. Они пишут, что после войны были подписаны соглашения о возвращении на родину пленных солдат. Немецких, испанских, венгерских, румынских вернули. Итальянских — все еще нет. Не всех. Около десяти тысяч, напечатано.
Ни единой фотографии Громыко. Из-за меня? Неужели я тот, кто им испортил всю обедню? Могли смонтировать. Или как это у них получится, если визит министра иностранных дел первый?! Где фотки взять? И потом «не виноватая я, не виноватая». Сами с трапом напутали. И меня, «двойника поневоле», чуть не обсмеяли. Завтра выкрутятся. Поснимают его на улицах. На всяких официальных церемониях. Наверняка же предстоят.
Будут, будут в газетах фотографии Громыко.
А вот было бы здорово, если бы не выбросили те, самые первые кадры, со мной на трапе, и подарили бы какой-нибудь киностудии. Не пропадать же добру. Вдруг придет кому-то в голову сделать начало комедийного фильма в подражание Чаплину. Торжественное начало, накал страстей, и… на трапе незнакомый дядя. Чем не готовая комедия? Но не придуманная.
А где же «шальные пули»? Ведь сам заикнулся. Были и пули! Чуть позже.
В гостиницу возвращался тоже пешком. Не такси же брать? Истратить одним махом все лиры, выданные на неделю в бухгалтерии Минздрава. Уже освоился в ночном Риме. Обратно легче. Каких-то три часа, и дойду. Завтра отосплюсь. Если смогу. По знакомым местам идти куда легче, чем в первый раз. Тишина. Город спит. В центре город живет, кипит, бурлит, сверкает, а здесь, на окраине (если это уже окраина), спят. Все нормально.
Поспешил успокоиться. Не насмешить людей мог — заплакать. Не до любования ночным городом стало. Не до поговорок. В какой-то миг ночная тишина сменилась ревом моторов, криками. Ревели мотоциклы и моторино (мотороллеры). Мчались по спящим улицам. Не меньше двух десятков, успел рассмотреть. Орали молодые люди верхом на тех машинах. В черной одежде. Размахивали флагами и транспарантами. Надписи: «Верните наших сыновей!» И еще какие-то. На итальянском и английском. Ревели и орали — оказалось еще полбеды. Раздались трескучие очереди выстрелов. Длинные, почти без перерывов. Это уже не шутки. Не «крепко выпимши». Пули. Свистят. «Снаряды ложатся ближе», — писали во время войны. Но то война. Слышал выстрелы вблизи, когда нас везли из блокадного Ленинграда к Ладоге. Перед тем как эвакуировать.
Куда здесь деться? Тотчас влип в стену дома передо мной. Не бомбоубежище искать! Лечь на землю? Наверно, было бы лучше всего. Не успел. Парни проносились мимо меня снова и снова. Накручивали круги по площади. Орали, стреляли. Вдруг даже в таком грохоте расслышал свист пуль над самой головой. Инстинктивно пригнулся еще ниже. Это меня, возможно, спасло. Когда кавалькада умчалась с площади и все стихло, распрямился и увидел у своей головы выщербленные места стены, припудренные свежей кирпичной пылью. С десяток отметин. Да, пули были шальные. В меня никто не целился. Парни палили в воздух и вокруг себя. Для шума. Но моему виску было бы от этого не легче, попади в него пуля. Пардон, нечаянно.
Опять везунчик! Осенью сорок первого мы с мамой чудом уцелели, когда на Литейном в двух шагах от нас рухнул дом во время бомбежки. Не задели меня очереди с фашистского истребителя над Ладогой. Не погиб в горах. Два раза был срыв на леднике. Плохая страховка. А здесь? Ни за что ни про что. Даже испугаться как следует не успел. Может, не исчерпан мой лимит на внезапную гибель?
На следующий день отправился в посольство СССР. Так просто не подойти. Улица оцеплена, перегорожена полицией. Еще за квартал до посольства. Предъявил мой иностранный паспорт. Полицейский очень медленно внимательно рассмотрел и сделал разрешающий жест. Не козырнул, как у нас. Мне и без этого хорошо. Надо зарегистрироваться «в первый же день по приезде» — сказано в инструкции. Скидок на стрельбу в ночи не сделано.
Пока ждал кого-то и чего-то в просторной нарядной комнате, познакомился с работником посольства, который сидел у телефона, тотчас снимал трубку и отвечал «Pronto». Ни одного слова он больше не произносил. Наверно, это все, что он знал по-итальянски. Не переключал. Зачем тогда вообще снимал трубку? На том конце не поймут даже, куда попали. Он ведь не представился. Мало ли в природе загадок! Эта не первая и не последняя. Еще один вошел. Обратился ко мне почему-то по… по-итальянски. За кого принял? Опечатка? Что ж, по-итальянски, так по-итальянски. Сказал ему в ответ несколько слов. Разговорились. Ему, оказалось, о моем приезде сказали. Знал, сказал, кто я и откуда. Очень любезно со мной говорил. От него я и услышал, что никакой ошибки с Громыко (или со мной) нет. Такие случаи уже пару раз бывали. Надо «догрузить» самолет.
В виде исключения брали «посторонних». Да, на правительственный рейс. Деньги!
Ни про свое «явление итальянскому народу» на трапе, ни об обстреле ночью я ему не рассказывал. К чему? Он подвел меня к окну. Оно выходило на улицу, по которой я пришел, все было перекрыто. Пояснил, что это вынужденная мера безопасности. За несколько дней до прибытия Громыко «группы дебоширов» проскакивали мимо посольства. И на открытых автомобилях, и на мотоциклах, и на моторино (мопедах). Старались устроить провокации. Стреляли в воздух. Разбили несколько стекол в окнах. Полиция предупредила сотрудников посольства о необходимости повышенных мер безопасности. Перекрытие улицы — одна из мер. «Товарища Громыко будут постоянно защищать наши спецслужбы и итальянские специалисты». Сказал, что «шумели они по поводу» пленных итальянских солдат, не возвращенных после войны. Находились в лагерях военнопленных. Уже много раз «советская сторона давала официальные разъяснения по этому вопросу». Все равно бузят. «Еще один демарш антисоветчиков». Посоветовал: «И вам надо быть особенно осторожным». Не просил его расшифровать. От судьбы не уйдешь.
Таким был его первый визит в Рим. Трагикомическим можно его назвать?
Андрей Андреевич Громыко оказался не единственной знаменитостью, с которой был связан его первый визит в Рим. Второй — вы догадались по названию эпизода. Да, Софи Лорен. Та самая, кинозвезда. Звездее всех других в то время. Точнее, не сама, а ее имя или след. Никогда бы не мог вообразить сочетание «Софи Лорен и… тихий доктор из Петербурга». И придумать бы не мог. И сфантазировать. И бредить. Жизнь превзошла всех.
Как только у нас в лаборатории стало известно — «Едет!», люди затормошились как муравьи. Превосходили шустрых муравьев, понятно, в очень многом, но главным отличием были улыбки. Не у муравьев. У всех наших, лабораторных. Как это красиво выглядело. Радость! Искренняя! Большая радость. За шефа. За справедливость. Они переживали — и куда больше его. Что его «прочно не пускают». Кто бы ни приглашал. От Краковского университета до Нобелевского лауреата лорда Эдриана из Лондона. Десятки персональных приглашений. Он не считал. И у нас никто не подсчитывал. Разве что чиновники Управления внешних сношений Минздрава СССР, куда институт пересылал копии приглашений. Может, еще какие-то чиновники.
«На всем готовом», включая дорогу, гостиницу, перемещение внутри страны. Поездка не стоила ни копейки. Ни Минздраву, ни городу, ни институту.
Это первый раз, когда разрешили. Случайность? Осечка? Брак в работе «органов».
Понятно, почему так радовались. Болели они за своего шефа. Свои люди.
Что началось! Улыбки улыбками. Стали тут же приносить кто что. Как из рога изобилия.
— Вот совсем новый, очень легкий нейлоновый рюкзачок. Удобно по городу ходить.
— Вот малюсенький, не больше кулака, электроутюг. В гостинице может пригодиться!
— А у меня очки от солнца. Новые, модные. Там ведь яркое солнце.
В общем, приносили каждый день. Добавляли. Заменяли на лучшее. Вспоминали, что «это тоже нужно, и не занимает места». Денег никто, понятно, не предлагал. Потому что валюты ни у кого не было. Менять было нельзя. В бухгалтерии Минздрава выдавали «под отчет» «крайне минимальную валюту» той страны, куда направляли. Квитанции абсолютно всех расходов (гостиница, переезды, оргвзнос конференции) надо было привозить в Минздрав для финансового отчета. Вот и оставались неподотчетными только деньги на еду. Тоже, естественно, по «прожиточному минимуму».
Вечерами звонили домой: «Вот еще вспомнил!» или «Такой-то напомнил…»
Как было не спросить каждого и всех вместе: «Ну, что вам привезти? Из того, на что деньжат хватит». Все отнекивались.
Деликатно, чтобы не обидеть, улыбались. Как бы: «Принимаю ваше приглашение. Но мне ничего не надо. Привезите лучше что-нибудь себе». Все-таки выцарапывал что-то у каждого. Остался без «заявки» один — Алик, аспирант, самый молодой.
— Ну, Алик, а тебе? Каждый что-то уже назвал. Не смущайся. А ты?
Алик покраснел. Смутился. Потупил взор. И ели слышно произнес:
— А мне — Софи Лорен. Если сможете.
Хоть смешно, никто не рассмеялся. Больно уж сильно он смутился. Или виртуозно сыграл.
В Риме я старался использовать любую минутку, чтобы купить какую-нибудь мелочь моим дорогим болельщикам. Помнил все просьбы наизусть. И наконец — Алику! Никогда бы до такого не додумался, если бы не опять Его Величество Случай.
Сказал «для шутки» о просьбе Алика своему «хозяину» в Риме профессору Гатти. И… еще одно «вдруг». Он ответил:
— Дарить, так дарить! Почему не попробовать? Поехали к Софи Лорен. Сейчас же. Это ее позабавит. У нее чудесное чувство юмора.
— Серьезно? Шутите? За компанию с нашим Аликом. Сейчас же? Что, не нужно даже созвониться? Получить согласие. Узнать удобное ей время.
— Ничего не надо. Мы свои люди. Ее секретарь — мой кузен. Она и ее муж знают меня как члена семьи. Будет им экспромт. Из России!
Я, конечно, не мог заживо схоронить мое любопытство (любознательность?). Увидеть вживую Софи Лорен. Дома. С расстояния меньше метра. Сберечь в памяти ее голос, лицо, походку.
В Италии все, с кем я общался, называли СССР только «Россия». По старинке. То ли потому, что в итальянском языке наша страна была «Russia» (Руссия), то ли удачно заглядывали в будущее (шутка!). Аж до тысяча девятьсот девяносто первого года. Когда страна вновь стала Россией.
Что ж, будет эта шутка с Аликом для Софи экзотическим подарком. Вряд ли она когда-нибудь получала такой.
Приехали через несколько минут. Все в центре. Подъехали к старинному большому «коммунальному» дому. Уличный шум там страшный. Широкий поток машин день и ночь под окнами. Дом почти напротив величественной белой колоннады, приподнятой над землей, почти летящей. Памятник независимости страны? Кажется, так. И первому королю Виктору Эммануилу. Пишу по памяти. Не обшаривать же заставленные дома на высоких полках книжки? Путеводители и справочники по Италии у меня остались, думаю. Не всем кандидатам на поездку, но кому-то раздал.
Профессор за рулем. Его жена — лоцман. Наверно, у них в семье считается, что Рим знает лучше она. А может, не только Рим. Нарядная лестница. Как для кино. Поднимаемся — без лифта — на второй этаж. На двери никакой таблички. И у нас сейчас никаких. Я еще застал в детстве красивые, металлические. Выгравировано: «Доктор такой-то». Редко попадались еще дореволюционные — просто имя, отчество, фамилия — например: «Василий Степанович Смирнов».
Перед войной все дощечки исчезли. Если в центре где и остались, то на дверях квартир частнопрактикующих врачей. Чаще всего стоматологов. Потом, еще перед войной, почти все двери были облеплены маленькими рукописными дощечками рядом с каждым звонком. Много на одной двери не уместится. Коммунальные квартиры! Все, какие знал, были коммунальные. С десяток комнат. Вот и десяток, иногда меньше, звонков. Если одна семья занимала две комнаты, звонок был, естественно, один на семью. Или одна дощечка. Но список: «Ивановым — 1 звонок, Петровым — 2 звонка, Сидоровым — 3 звонка» и так далее. Были и «Ивановым — 1 длинный, Петровым — 1 короткий» и т. д. Даже такая усовершенствованная: «Один длинный, два коротких» или «Два длинных, один короткий». Ничего. Разбирались. Позже почти все двери вместе с дощечками и звонками сменили на металлические. Да на двойные металлические. Да с «секретными замками». Плюс металлические двери на парадных с кодом, домофоном и тому подобным. «Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее!»
У них, там, тоже не сахар, говорят. Не знаю. Не пришлось лизнуть. Интересно, а как здесь, в Риме? Дощечек все же было, наверно, поменьше. Насчет коммуналок — не знаю. Не спрашивал. Не читал. Какой, интересно, вид эта парадная имела лет двадцать, и пятьдесят, и сто тому назад? Дом наверняка уже был. По стилю видно. Девятнадцатый век. Середина или конец. В Петербурге очень похожие были в те годы.
Профессор, подмигнув нам, нажимает на звонок. Слышны шаги в коридоре. Нет, конечно, не Софи. Не муж (знаменитый кинорежиссер, фамилия сейчас выскочила). Для этого есть, знаю, слуга или служанка. Домработница, по-нашему. Открывается дверь… симпатичный дядя среднего возраста. Одет нарядно. «Под артиста». Брюнет. Красивое лицо. Прическа модная. Усики.
— Карло!
— Джузеппе!
— Вот Джузеппе и есть секретарь, — пояснил профессор Гатти, когда вошли. Роскошные улыбки. Хоть тут же снимай крупным планом. Легонькие секундные объятия. Не дольше.
«Так сейчас в Европе принято», — сказал бы наш «западник» Володя.
Принято, так принято. Мне все равно. Не я же. Все приветствия на понятном (мне) итальянском. Красиво звучит!
— А Софи?
— Уехали вчера вечером в Париж на съемки.
— Как жаль! Вот коллега, мой друг (вот как он меня представил!) из Ленинграда. Очень хотел их (это, выходит, Софи и меня?) познакомить.
— Как не повезло! — Все сказано на красивом итальянском языке. И не слишком быстро. Поэтому понятно. Мне бы ему, секретарю, сказать пару слов. Пусть услышит, кого хотел знакомить.
— А когда вернутся?
— Через неделю. Максимум.
— Вы, синьор, как долго пробудете в Риме? Будете гостем.
За меня ответил профессор. Так искренне. Так грустно. Совсем не «как в кино».
— К сожалению, через пять дней. Скузи! (Извини!)
Единственная просьба, Алика, осталась невыполненной. Не привез я ему Софи Лорен. Остался он без нее. А я без радости видеть его лицо, когда перед ним появится Софи Лорен.
Пережил это Алик, похоже, не слишком тяжело. В следующий раз подумает лучше, что попросить привезти.
«ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ "ЧЕРНЫХ СТРИЖЕЙ" НА ЧЕРНЫХ МОТОРИНО!»
В разных городах бывают, знаю, всякие предостережения. Их называют своим гостям добрые хозяева сразу по приезде. И это очень даже правильно. Заботливо.
В Америке мне несколько раз с тревогой говорили:
— This a very bad area. Be careful! —Это очень плохой район. Будь осторожен.
И кварталы в Манхэттене, и большие районы в Балтиморе. Сами проезжали без остановки. Даже если надо было купить сигареты или бутылочку коки. Когда мой товарищ, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, услышал от меня, что днем я прошел по Пятой авеню (центральной улице города) с юга на север много кварталов до девяностой улицы, где факультет университета, его лицо буквально потемнело.
— Какой ужас! Почему вы подвергали себя такому риску. Шли один? Там на углах Пятой авеню и семидесятых улиц всегда стоят группы подростков, афроамериканцев. Они наркоманы. Много бандитов. Нападают на прохожих. Как вам повезло!
Просил обещать, что больше я не буду ходить, даже проходить мимо таких «плохих районов». Наутро дал мне список особенно неблагополучных мест и карту города, на которой их крупно пометил.
В Риме даже я, проезжий гость (или транзитный пассажир?), счел нужным предупредить прежде всего о ловкачах на мопедах (моторино). О дуэтах отчаянных воришек. Виртуозы! Джигиты! Знал по грустному опыту моих коллег.
Фразу о «стрижах» я услышал в Риме от своей коллеги Иржины. С мужем Зденеком они приехали на своей маленькой машине — как наш «запорожец» — прямо из Праги. Там, в Центральной Европе, все рядом. На научную конференцию по фармакологии. У обоих доклад. «В Крым через Рим». Нет, в Милан. Не в Крым.
Увидел их поздно вечером перед своим отелем в Милане. У их машины. Иржина в слезах. Зденек вбегает и выбегает из отеля. Что за паника? Почему слезы?
Иржина сквозь всхлипывание отвечает: «Украли у нас сумочку. У Колизея. Среди бела дня. Остерегайтесь, Славек, "черных стрижей" на черных моторино!» Сказала по-русски. На отличном языке. То поколение научных работников еще свободно говорило на хорошем русском языке.
Вот бы мне так по-английски! Я, конечно, не знал, кто такие «стрижи». Никогда не слышал.
— Стояли перед Колизеем. Разглядывали. Первый раз в Риме. Вдруг — как с неба — стая подростков пронеслась мимо. На черных моторино. В черных одеждах. Все парами.
Потом поняла. Один ведет машину, другой — «оператор». Он и рванул у меня с плеча сумочку. Не сбавляя скорости. Вся стая скрылась мгновенно. А в сумочке паспорта с визами, все деньги. Обратились к полицейскому. Тут же отвез нас в полицию. Составили протокол. Но сказали, что вряд ли быстро найдут. Эти «стрижи» практически неуловимы. Записал название отеля, в котором мы будем в Милане. Спросил, сколько дней пробудем. Покачал головой, когда услышал, что неделю. Бог с ними, с лирами. Там было немного. Но паспорта с визами! Как теперь выезжать?
Каждый день на конференции мы спрашивали Иржинку и Зденека, не нашли ли. Ничем не обрадовали. Как-то выехали из Италии без паспортов. Звонили из Праги. Было их так жалко. Испортили «стрижи» им первый визит в Италию, все дни на конференции.
В других городах Италии не раз видел такие стайки несущихся на мотороллерах парней. Верно, всегда парами. Один правит, другой сзади. Может, профессиональное? Для «стрижей-налетчиков»? Или хобби? Повезет на зевак, так повезет. Не повезет, так прокатятся с ветерком. «Какой же итальянец не любит быстрой езды!» Очень шумное зрелище! И всегда неожиданное. Парни в черном, как сейчас байкеры у нас. Но про то, что и в других городах срывают сумочки, не слышал. Конечно, было. Вряд ли Рим — исключение. Но только в Риме есть Колизей! Может быть, поэтому в Риме больше всего зевак. Любителей истории. С сумочками на плече. Удобно. Дернул, и нет тебя. Не поймают. И зеваке урок.
А может, срывание сумочек на полной скорости — неофициальный вид спорта в Италии? У «некоторой, несознательной, части нашей молодежи»? Как в других краях, где популярны скачки на лошадях, официальным видом соревнований является срубание саблей лозы на всем скаку. Но у лихачей на моторино более высокая прибыль.
С нами в Риме такого не случилось. Перед Колизеем «профилактически» долго не стояли. «По разумному минимуму». Да и сумки свои держали крепко. Особенно когда мимо проносились моторино.
Но случилось похожее в… нашей тихой, спокойной элегантной Падуе. Почему «похожее», а не то же? Потому что не моторино на большой скорости, не дуэты лихачей. Едущий, казалось бы мирно, по узенькой улочке исторического центра «приличный» молодой человек. Выглядит как «обыкновенный студент». Без опознавательных знаков, без грозной черной формы. Нарядный. Улыбающийся. Тишина. Покой. Тихое дыхание истории. Поравнялся с нами и… молниеносно схватился за ремешок сумки на плече у нее. Не тут-то было! Она, молодец, не зазевалась, не растерялась, не опростоволосилась. Никуда сумочка не делась. Хоть и не привязана. Еще раз убедились, что не только «болезнь легче предупредить, чем лечить», как говорил великий Пирогов, но и потерю сумочки проще предотвратить, чем возвращать с помощью полиции. Падуя не подвела.
«ЦЫГАН НЕ БОЙТЕСЬ! ОНИ У НАС ТЕПЕРЬ СМИРНЫЕ»
Вот и они подходят к Колизею. Последний день в Италии. Ни она, ни он не забыли урока Иржины. И в Риме хозяева добавили предосторожностей. Напомнили и о лихачах на моторино у Колизея.
— Сейчас некоторые туристы боятся не черных налетчиков, а цыган. Их очень много у Колизея. Бывают большими толпами. Случалось, что обкрадывали. Всегда одинаково. Обступят туриста с десяток детей, мальчиков и девочек. Подвижные, веселые, танцующие цыганята. Взрослые цыгане вдали. Дети облепляют туриста или туристку. Начинают шумно смеяться, пританцовывать. Все на больших скоростях. Заканчивается тем, что по несколько детей, продолжая смеяться или пританцовывать, повисают на руки. Три человека на одной руке, три на другой. Берут в клещи. Не выкрутиться. Не освободить руки. Все! Попались в сети. Настает кульминация. Пока на руках висят дети, из толпы выпархивают «операторы» (так их называют), ловко залезают во все карманы, «инспектируют» сумочки. Ничего и не сделаешь. Руки парализованы. Не выкрутиться.
«Операторы» мгновенно скрываются в ту сторону, где виднелись взрослые цыгане. Грозди малышей не руках спадают, и дети бросаются бежать. Врассыпную. Кого и как ловить. След простыл.
— Но вы не бойтесь! Они теперь у нас смирные. Недавно попало им, цыганам, крепко. За их «операции» у Колизея. Стали приличнее себя вести. Большими группами не ходят. У вокзалов еще бывает. Но у Колизея теперь спокойно, говорят.
Когда мы приблизились к нему, увидели, что можно его обойти только справа. Со стороны Форума. Между ними, Колизеем и Форумом. Куда мы попали! В историю древнего Рима. Все подлинное. На местности.
Там просвет или проход. И «в конце туннеля…». Не свет. Большая разноцветная и шумная толпа цыган! На своем «рабочем месте»? А нас всего двое. Но вот что значит «Предупрежден — значит предохранен». Так говорят? Мы и не оробели. Пошли, не сворачивая, прямо на толпу. Не обойти ее никак в узком проходе. Поравнялись. Улыбаемся им. Они нам почему-то нет. И все. «Разошлись как в море корабли». Инцидента не было. Дружба с цыганским народом не ослабела.
Конец венчает дело по-латыни. Или по-русски: «Конец — делу венец». Еще на первом курсе выучили. Циники у нас на курсе изловчались под словом «конец» подразумевать совсем другое. Из анатомии. Даже пекли, как блины, всякие анекдотики «быстрого приготовления». Не пользовались успехом. Не запомнились.
Что же они получили в конце двухнедельного пребывания в Италии? Кроме радости каждый день и каждый час встречаться с вечной классикой.
Так всегда хотелось, чтобы эта радость не завяла. Увы, привянет со временем. Не без того.
Но сохранилась. И люди! «Есть люди праздники…» — в одном довоенном стихотворении Маргариты Алигер. Какие бесценные подарки встречи с ними. Почаще бы судьба творила такие случайные подарки. Но и праздники бывают всякие. И маленькие — найти давно затерявшуюся любимую авторучку. И великие — как День Победы и Снятие блокады. Так и люди-праздники
Классика потому и классика, что вечна. Все приходило и уходило. Годы, эпохи, течения в истории, в культуре, в живописи, в архитектуре, в музыке. Мода. В одежде. В словах и словечках. В автомашинах. В популярных книжках. Песенках. Танцах. Классика переживала. Выживала. Это все прописные истины? Они, читали где-то, что банальности потому и раздражают нас, что верны. А может, потому что в моменты встреч с ними мы сами бываем раздражены. Причин много.
Всегда мой друг чувствовал себя «в своей тарелке», когда оставался с классикой. Его не смущало название «консерватор». Да, консерватор! И рад этому. Именно благодаря консерватизму сохраняются вечные ценности.
В Англии, знаем, есть консервативная партия. Никогда не отказывались ни от своего названия, ни от своей программы. Консервативная! Сохраняют! Консервируют! Все ценное в стране, в народе. Так, наверно, продолжает жить классика. Пришедшая из далеких веков. Пусть жестко, часто с негодованием, критикуют за то, что отворачивался от разных новаций в науке, в музыке, в живописи. Ретроград! Слепец ленивый! Не хочет видеть новое. «То не мое!» — часто отстреливался.
— Я не говорю, что «это плохо». «Что русскому здорово, то фашисту смерть» — плакаты висели во время блокады. Мороз — у нашего солдата красные щеки. У немецкого — синий нос.
«Мое — не мое» — лучше всего, наверно, определить по тому, хотел бы (если бы смог, конечно) сделать так. В науке, в музыке, в живописи. Как ни хорош Дюфи — это не мое. Я бы гак не хотел. А вот как Сезанн!
Это все у него. А у нас? «А у нас в квартире газ». Это уже было в детском стишке. Разные Италии остались у каждого из нас двоих в душе. Удивляться здесь нечему. Разные люди, разные судьбы, разная почва была для встречи с Италией. В итоге? Рано и трудно сказать: «Цыплят по осени считают». Еще одна прописная истина. Осень еще не наступила. Лето. И осени у каждого из них будут разными. Как не жаль. Кого и как молить, чтобы как можно дольше сохранялось то общее, что сближало их в Италии? Когда как на одном дыхании. «И у меня!» — так часто восклицали. Милан, Падуя, Венеция, Болонья, Флоренция, Рим — свидетели.
Из анекдота. Что девушки разных национальностей говорят утром своему партнеру. Американка: «А когда новый «кадиллак»? Немка: «Когда на Канары?» Англичанка: «Когда устроишь в новый банк?» Русская: «Если будешь бить за эту ночь, пожалуйста, не в морду. Мне на работу». Француженка: «И это все?»
Анекдоты приводить в книжках не запрещается? Значит — разрешается. Прощения можно не просить. Так вот. Закончилась Италия. «И это все?»
Нет. Не все. Через пару лет, как они расстались, попросила их общую знакомую передать ему большущий пакет — пластиковую фирменную сумку. Это еще что? Принес домой. Высыпал на диван обильное содержимое. Все, что он давал ей за все годы. Как в детстве: «Забирай свои игрушки! Я с тобой больше не играю!» Демарш называется? Демарш чего? По-видимому, это означает: «Даже вещи твои знать не желаю»? Он же всегда все давал «насовсем» (у него в детском садике так и говорили: «Дарю насовсем»). Десяток небольших книжек. Каждая с кем-то или чем-то связана. Одухотворена. Память. Свитер и джемпер, что дал ей однажды, когда к вечеру резко стало очень холодно возвращаться домой. «Памятное» махровое полотенчико. С эмблемой «его» Олимпийских игр. «Самое ласковое, которое я когда-нибудь видела». Короче, абсолютно все, что у нее было от него. Даже (!) маленький шелковый платочек — шею украсить. Сам выкроил из любимого маминого самого красивого яркого платья. Думал, что будет согревать себе душу, когда совсем плохо ему и ничто не помогает. Так и было. Об этом он сказал ей, когда дарил. Дочка его не сдержала эмоций:
— А это еще зачем? Бабулино любимое!
Он понурился и тихо-тихо:
— Чувствовал, что породнились. По-настоящему.
Поняла ли дочка? Согласилась? Не порицает?
Италии больше не было. И России. Все ушло. Душа только осталась.
Его они встретили случайно пару дней назад в Болонье. Когда посетили маленькую клинику университета. Много лет он приглашал его знакомого профессора. Хотел, наверно, пополнить свой список лично знакомых иностранных коллег. Или коллекцию. Ничего в нем интересного для профессора нет. Был уверен.
Новый знакомый разыскал их в Риме, в гостинице. Адреса своего они ему в Болонье не оставляли. Тоже педиатр, говорит. Выходит, ее коллега. Очень среднего возраста. Породистый. Улыбка кинозвезды. В большой дозировке. Одет франтовато. Когда-то говорили, кажется, «с иголочки». При полном параде в такую жарищу. На здоровье!
Повез на своем маленьком «фиате» на свою виллу вдали от города. Утром в воскресенье. Никаких планов не было. Ни в какую программу не входило. Недоговаривались. После Ватикана и собора Святого Петра! Что там у него такого исторического? Не говорил. Не рекламировал. Не вызвали они у него вроде никакой особенно теплой симпатии. Но бывает же внезапная? Необъяснимая. Порыв! Здесь не похоже. Но очень уж настойчиво приглашал. Невежливо вроде отказывать.
На следующее утро она его «как обухом по голове»:
— Он предлагает мне работу у него. Очень расхваливал! Все можно быстро оформить, говорит. У него в их МИДе старый приятель. Не раз выручал. Наверно, надо остаться. Остаются же люди? Не только в Америке. Такого предложения никогда в жизни не будет. Фортуна! Нельзя отказываться.
— Ты что? Опомнись! Не срывайся! Я видел, как он все время смотрел на тебя. Больше на ножки. Слюни у него текли. Какая педиатрия?! Так на коллегу не смотрят. Не для педиатрии ты ему понадобилась! Уверяю тебя. Не похож он совсем на доктора, который печется о своей клинике. Не похож! И тон его! Слащавый. Он больше похож на заслуженного или даже народного обольстителя. Ловеласа. С хорошо отработанной дозировкой всего. Улыбок, тона, привлекательности. Это человек опасный. Поверь. Он погубит тебя.
Сейчас не решай ничего! С бухты-барахты. Продумай все! Ты же ничего о нем не знаешь. Настоящее уличное знакомство. Чем он тебя поджег? Как же «за и против»? Сколько раз сходились на том, что без такого взвешивания нельзя решать. Не семечки покупать! Не отворачивайся от нас! Послушай! Я же не враг тебе. Большой друг. Сама говорила.
Сразу пришло на память, что она никогда, ни-ког-да, ничего не говорила на «эти» темы: эмиграции, жизни там по приезде, в дальнейшем, когда все устроится и устоится. Сколько раз, наверно, чуть не каждую неделю, он упоминал кого-то из своих коллег, кого и она знала. По встречам уже сейчас, в их дни. В Питере или в Москве. Слышала впрямую их рассказы, не только в его пересказе. Про Америку. Про Германию. Про Израиль.
Всякие были рассказы. Как всегда, и комичные, и серьезные. Даже печальные.
О тамошних нравах, о судьбах иммигрантов. Ни разу ничего не сказала на эти темы. Не выразила свое отношение.
Один его однокурсник, отличавшийся тем, что часто бывал и пустомелей, и циником, как-то неожиданно для всех выдал:
— Не люблю людей, упорно молчащих! Как правило, они молчат неспроста. Не-с-проста!
Ух какой мудрец! Прямо афоризмы вешает в эфир. Но потом мы убеждались, что он бывал и прав. Здесь, в нашем случае, к нашей героине, это подходит? Какое «неспроста»? Не замышляла ведь она ничего, что надо было скрывать. Не выгадывала, оставаясь безмолвной. Все-таки, может быть, «дим бэз агния нэ бивает», как сказал однажды вождь. Чужая душа потемки. Это так. Но ведь не чужая. Мы друзья. Сроднились.
Часа два пробыли у него на вилле. Там познакомились… с двумя русскими молодыми женщинами. Лучше бы не знакомился. Жалко их! Загубили свои жизни. Обе — инженеры. В России работали. Их считали «очень перспективными молодыми специалистами». Уже хорошо зарабатывали. Ездили в важные командировки. Их приглашали работать на известные заводы в Подмосковье, на Урале, в Карелии.
Он ей напомнил, что они всегда были единодушны в том, что окончательное решение надо принимать, не только взвесив все «за» и «против». Последний вопрос перед решением: «Какой ценой?» Многое можно. Пройти по шпалам от Питера до Москвы. Можно. Но цена? Сколько времени потратить, даже потерять? Сколько своих дел, больших и малых, запустить? Сколько близких оставить на эти дни без участия и помощи? Сколько подошв протереть? Сколько простуд получить?
Цена здесь? И как же мы? Наш тандем? Оба считали, что он — чудо природы. Божий дар. Arrivederci? А «Твое счастье — мое счастье» — ты знаешь этот грузинский припев. А родители? А твоя клиника? Они тебя так ждут после защиты. Приди в себя.
— Ты что, не хочешь мне счастья? Ты против меня?
Так раздраженно. Зло. Будто ее просит совсем чужой дядька. Плохой дядька. Не близкий друг. В последнее время вроде ближайший. Как будто говорит какой-то чужой. По долгу службы. Кто-то из администрации или отдела здравоохранения. В «пропаганде и агитации». Бывший комсомольский вожак. Их декан или завкафедрой.
— Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне. Где бы и что бы ни было. С кем бы ты не сталкивалась. Душа просила так. Наверно, болел больше за тебя. Тебе, чувствовал, тогда было хуже. Не успевал даже разобраться, на чьей стороне правда. Не до правды. Когда тебе плохо. Ты же помнишь? Сама говорила.
— Тебе что, хочется, чтобы я прозябала? И дальше прозябала! В своей дурацкой клинике. Среди этих придурков. Что мне светит? Ничего! Ну, буду кандидатом. Ну, даже доктором. Что изменится? На тысячу рублей больше? Сделает погоду? Прозябать до пенсии? На родительской даче в Комарово душу отводить? Кататься и дальше на своей «хонде»? Наследовать их «фольксваген»? Разъезжать на двух? По четным и нечетным дням. Так жизнь и пройдет. Не заметишь. Утешаться твоим Губерманом — «Здравствуй, старость! Я ведь мог и не встретить тебя»? У него на все случаи жизни найдутся стишки. Бодренькие. Тебе проще. Ты, помнится, в десятке стран побывал. И с почетом. «Выдающийся ученый!» Закрепилось за тобой. Кто не знает? А нашему брату, середнячку, что делать? А середнячку тем более ничего не светит.
— Что ты говоришь! Опомнись! Ты же сама видела этих бедняг у него на ферме. Они виллой называли. Какая разница! Они для нас чужие люди. Случайные. Одна из Курска. Другая из Смоленска. Вот это география! Еще недавно уезжали из Питера и Москвы. Евреи. Немцы Поволжья из Казахстана. Потом и кто примазался. В Америку. В Германию. Ну, в Израиль. Теперь и Италию заселять начали.
— Но кто они там, на вилле? Даже бодряков нам, землякам, не разыгрывали. Работницы! Домработницы? Прислуга? Приживалки? Глаза мои их бы не видели! Как душа вынесла!
— Знаешь, та, что из Смоленска, что мне сказала? Призналась вдруг. Когда мы остались одни. Сидели в той беседке. Слева от ворот.
— Рабыни мы здесь. Если правду говорить. Своим можно сказать. Кто, если не рабыни? Я спать с ним должна. Та — в другие дни. Месяцами (!). Вы уже больше повидали в Риме за свои два дня. Никуда не выезжаем. Какой там Рим! В какой стороне он, даже не знаем. Где-то там есть. Что нам до него?
Я хоть чуть покрепче. Терплю. А она совсем плоха. Еле держится. Храни Бог, чтобы не сорвалась. Ее надо видеть ночью. Лучше б меня пытали. Боль одна. Что сделать?
Чем эта ферма кончится? По всей Италии не поедешь. Инженеры. Одно название. Да и то не здесь. Мы — не туристы. Рабыни. Чужаки для них. Они нас и за людей не считают. Какое им дело до наших дипломов?! Кто что умеет. Вон та, из Курска. Не курский соловей, но вы б ее послушали. Красота, да и только. Сцена по ней плачет. По телевизору нет-нет видим их концерты. Да, раньше была Италия песенной страной. Даже мы еще с детства неаполитанскими песнями заслушивались. Наизусть многие помнили.
Грех сказать, но знали итальянские песни, бывало, лучше наших, русских, народных. А здесь? Сами не поем — это ясно. Но даже по телевизору не слышим. Может, есть? Может, каналы надо знать? Концерты. Вы спросили. Помните? Так надо же в город выехать! А где деньги взять? Даже на автобус. Да и не отпустит. Ни за что. Рабыни. Одно слово.
Вот — слово в слово, что она сказала. Что бы она еще рассказала, если бы мы побыли здесь подольше? Привыкли хоть чуть-чуть к нам, землякам. Хоть пару дней. Разговорились бы, уверен. Нет, хватит с Рима рабов! «Водопровод, сработанный еще рабами Рима». Маяковскому было легче. И то написать. И не здесь.
Дулась на меня еще пару дней. Похоже, обиделась. Что не хотел ей счастья.
Тут я впервые встревожился. Все ли у нее в порядке с головкой. Если так легко захватила наживку. С ней ни о чем не говорил.
И меня, и всех своих бросила бы? На что променяла? Что лучше? Для души? Для тела? Для желудка? Чует мое сердце, что и едят-то они здесь не досыта. Ферма!
_
Пока он был жив, Италия оставалась в его душе. Та, что была тогда. И она. Какой была там. Друг мой не встречал ее больше семи лет. Потом ушел из жизни. Ничего между ними не произошло. Ни конфликта, ни ссоры, ни скандала. Его душа, видите сами, жива. Пока мы живы. Звучат его голос, его слова, его юмор. И живо то, что мы успели сделать для его памяти.
Она исчезла тихо. «Без комментариев» ушла со сцены. С нашей сцены. Где мы продолжали жить. Уже без него. Совсем другая у нас жизнь.
Захотелось — пришла. Расхотелось — ушла. Решительность? Деловитость? Что?
Как бы она ответила? Как человек рациональный, она не стала бы тратить время на эту тему. Для нее, он не сомневался, это Plusquamperfect. Давнопрошедшее время в немецком языке. Может быть, чуть пожала плечами.
Насколько комфортнее с такой тактикой на необитаемом острове! Вот где абсолютная свобода! Не с кем считаться. Никогда не будет никакого «но». По отношению к кому? Ни единой души вокруг. Только ты. А с собой всегда договоришься.
Ей надоело? Вкусы изменились? Новое манит?
«Душечка» Чехова. Наверно, нельзя считать этот персонаж отрицательной героиней. Всего лишь яркий вариант нормы. Доктор Антон Павлович Чехов не стал бы, думаю, возражать против такого «диагноза». Посвящала себя каждому, с кем была. К нашему стыду, мы знали этот образ больше по цитате из Ленина. «Мы с Лениным ругали Мартова, мы с Мартовым ругали Ленина. Социал-демократическая душечка! В чьих объятиях очутишься ты завтра?» Кажется, процитировано верно.
И у них. Жила с мужем опером — посвящала себя его погоням, задержаниям, стрельбе, что слышала в его рассказах. Даже ходила с ним в тир для милиционеров. Училась стрелять. Жила с музыкантом — посвящена музыке. Почти как профессионал. Запись пьес Баха в исполнении Пабло Казальса слушала как редко кто из меломанов. Выбирала концерты в Филармонии по своему вкусу. Отменному вкусу.
Знаменитая актриса эстрады Мария Владимировна Миронова блистала в разных миниатюрах. Одну из них многие часто цитировали и почему-то всегда старались подражать ее интонации в той роли. Немолодая бойкая актриса. Немножко экзальтированна. Скороговорка. Очень выразительная мимика. Вспоминает эпизод из своей карьеры: «Ах, как я его любила!!! Как я его любила!» Затяжная пауза — и совсем другим, спокойным прозаическим голосом продолжает: «Целых два сезона». Виртуозно сыгранный неожиданный контраст между первой и второй фразами. В этом неожиданном спаде эмоциональности — источник ее успеха. У них тоже получилось «целых два сезона».
У актрис, кажется, честнее. Приходит в театр. Часто и на выбранную ею роль. Договаривается, что эти два (три — не суть) сезона она хочет играть Джульетту. Потом? Ей очень хочется сыграть и Марию Стюарт. Если в этом же театре — останется. Если здесь роль не дадут, уйдет в другой. Где возьмут «на Марию Стюарт».
Наверно, не бывает такого, что в середине спектакля внезапно уходит со сцены. Вряд ли спектакль не доиграет. Все без обмана. Все известно заранее. Никто никого не подводит.
Да, есть ария герцога, которую напевали еще в детстве, — «Сердце красавицы (или красавиц?) склонно к измене, и к перемене как ветер мая…». Так что не надо открывать Америк. В этот раз ты «попался». Не одним же герцогам!
Но у них же все было по-другому! Несколько раз это «открытие» повторяли друг другу. Гордились. Неужели герцог огласил какой-то закон, которого они не знали?
У них? Сама приходит. Заверяет, что нашла свою мечту. Что навеки.
Сколько раз хотелось ему закричать:
— Я же никого не трогал! Не заставлял ко мне приходить. В институт, домой, в библиотеку, когда там сидел. Все только сама. «По своей инициативе»! Захотелось развлечься? Именно с ним? Он хорошо подошел как нужный человек. И диссертацию написать и защитить. И от расставания с мужем немного передохнуть. «Лучшее лекарство от женщины — женщина». От мужчины, следовательно, мужчина. Не так? Равноправие! Равноценность! C'est la vie! Правда жизни. Не романтика. Не иллюзии.
Потом исчезает. Никто из наших даже не знает, где она теперь. Никому в клинике не сказала. Единственное исключение — шефу просила передать, что переехала в Москву. Мужа перевели на повышение. И ездила дочке присмотреть школу в новом районе. Все соврала. Одна их сестричка встретила ее на Невском.
— Вот наконец-то вырвалась в Питер повидаться с родителями. Смущение какое-то осталось? Ничего сказать не удалось.
Как бы выглядело в театре, если бы пришла, напросилась на роль, клялась, что никогда из этого театра не уйдет, пока ее не попросят или пока не появится новый главный режиссер, который ее невзлюбит. А потом в разгар сезона исчезнет. Без объяснений.
А еще говорят, что Шекспир сказал, что жизнь — это театр. А мы в нем актеры. Сказал ли что отдельно про актрис, — не говорили. Мне вообще Шекспир ничего не говорил. Не может ли и здесь быть «испорченный телефон»?
Однажды он обмолвился, что мучения понять их судьбу завели его в чащу.
И внезапно появилась «мысль» о… «девушках легкого поведения». У тех как? «Девушки по вызову» (call-girls). Приезжает (ее привозят) на два-три часа по договоренности. Срок заранее известен. Все оплачено. Без обмана. В публичном доме, наверно, тоже все определенно. Без обмана. Заранее посетитель знает все. На сколько часов заходит (приходит), какая цена за одну ночь, даже как выглядит девушка, которую он выбрал по альбому. Свободный выбор. По согласию сторон. Без сюрпризов.
— Если правильно представляю себе этот вопрос, — добавлял с чуть заметной стеснительной улыбкой.
Его нельзя было не понять. Помучаешься, так и не туда забредешь в попытках хоть что-то понять.
Последний раз мы виделись с ним в больнице на Васильевском. За несколько дней до его кончины.
— Не приезжай ко мне в воскресенье. Не трать время. В среду выпишут. Вот тогда и посидим как следует.
Выглядел хорошо. Внешне не отличался от здоровых, от себя в прежние годы. Уже неделю ему разрешили вставать, выходить из палаты.
Сидели у окна. У них на пятом этаже далеко-далеко видно. До самого залива. Небо бескрайнее. Смотрит куда-то вдаль. Погружен в себя. Медленно, на тормозах, и тихо, еле слышно, говорит. Как про себя. Никому. В небо.
— «С любимыми не расстаются»! Это только пьеса так называлась? Или крылатое выражение? До пьесы еще. И после пьесы нередко. Или не расставайтесь?
Или из каких-то книг? А если любимые к тому же любящие? Не закон ли какой? Писаный или неписаный. Если закон — надо соблюдать. Но все, наверно, законы нарушают. Даже была такая фраза: «Законы создают для того, чтобы их нарушать». Была? Тоже не знаю, откуда.
Длинная пауза. Даже дыхание не слышно.
— Но… за нарушение законов наказывают? Люди это знают, но все равно нарушают. Авось пронесет.
Еще грустнее:
— C'est la vie! Но есть и другие vie! Она мне как-то сказала этой весной: «Вижу, вижу. Ты меня любишь. Очень любишь». А чуть раньше даже выкрикивала про свою любовь. Проходили в Падуе под какой-то аркой в центре. Ни о чем особенном не говорили. Смотрели. Дивились. И вдруг как закричит: «Я очень тебя люблю! Очень люблю».
Под аркой зазвенело даже. Как в трубу. Гигантскую. Наверно, и стекла задрожали в соседних домах. Без преувеличения. Честно. Хорошо, что поблизости никого не было. Могли и в полицию проводить. За нарушение общественного порядка. Так мощно выкрикнула! Не театрально.
Такое с ней пару раз и потом, уже в Питере, случалось. И тоже под аркой. То ли арок так много у нас, где мы живем, то ли арки на нее так действовали. Резонанс своего голоса слышнее. Как в фильме. Романтичнее! Красивше! Сама себе больше нравишься.
Вспоминал теперь несколько раз эти выкрики. Когда уже знаем «чем дело кончилось». Актриса? Экстравагантность? Эксцентричность? Экстрим? Страсть украшать себя? Красивыми словами. Все равно красота. «Красиво жить не запретишь!»
Мне и здесь, даже здесь, приходит вечный вопрос: а какой ценой? Чьей ценой? Или «мы за ценой не постоим»? Когда себя украсить тянет. Против себя не попрешь. Не нормально будет. На самоубийство смахивает. Себе делать плохо.
Да-а. Вождь бы подсунул свое: «Сложное это дело, товарищи. Запутанное. Я лично подчеркиваю, лично, такому ча-ла-вэ-ку нэ давэрял би». Это он сказал — помнишь? — на каком-то заседании Политбюро, где разбирали «дело» одного нашего ученого-медика. Но и вождь мог ошибаться. Isnt it? Помнишь концевые (хвостовые) вопросы инглиша? Не так ли?
Я его, конечно, ни разу не перебил. Человек беседует с собой. Мешать нельзя. Такой человек. Свой. И нарушить его созерцание облаков не хотелось.
Вот о чем он, бедняга, думал. Оказалось, в последние свои часы. Крепко сидело в нем. Не отпускало.
Я всегда ему верил. Больше, чем себе. Понимал его, временами думаю, лучше, чем себя. Главная его беда — что и он верил. Против себя часто доверял другим. Считал, знаю, что не может, не должен оскорбить человека неверием.
Улыбаясь, как пристыжено, признавал:
— Конечно, тут очень близко от легковерия. Они, легковерные, — такая беда. От веры в любую рекламу до признания даже нелепых призывов и лозунгов пропаганды. Нет чтобы сказать себе: «Минуточку! Дайте подумать». Сколько раз напоминал себе и другим вечно мудрый совет Декарта: «А так ли это?» Под названием «здоровый скептицизм» остался в истории. Или такая вера — инфантильная сверхнаивность взрослого человека?
Даже как-то привел в шутку «презумпцию невиновности». Сказал, что он для себя считает обязательной «презумпцию согласия»: сначала иметь установку на согласие. Идти навстречу. Только если потом не может по большому счету согласиться, выскажет свое несогласие. Вообще-то философствовать не любил. Лирик!
Где он был слабоват, так себя защищать. Во всем. Кроме свободы. Других? Сколько угодно. Кого только не защищал. Не на словах. С большим риском для себя. Бог миловал. Сохранял.
Лапин Изяслав Петрович
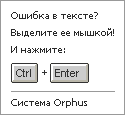


Добавить комментарий