Естественный язык
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Именно поэтому развитие живописи привело к возникновению манеры, апологеты которой стремились полностью исключить из языка искусства грамматический (неестественный, введенный извне) элемент. Это отразилось прежде всего в увлечении пленэрной живописью, пренебрежением мастерской, светотенью, то есть экраном. Ведь принципы, введенные искусственно, в частности, принципы симметрии, связаны как раз с экраном (или с герметической камерой), выделяющими ситуацию из внешнего мира. Импрессионисты же в своем стремлении к естественному освещению исключали какую-либо герметическую педагогику, иначе говоря, всякий внешний элемент из своих картин. Поэтому в их живописи исчезла перспектива, причем следует иметь в виду, что импрессионизм не просто, как думают кантианцы, заменил один внешний, трансцендентальный принцип восприятия другим. Импрессионисты просто отказались ото всех трансцендентальных, то есть предшествующих восприятию элементов. Здесь можно было бы говорить о поисках "естественной" перспективы, но это спор о терминах, ибо перспектива, будучи внешней, всегда тем самым искусственна, поскольку игнорирует сущность явлений.
Напротив, средневековая живопись посвящена не образам мира, а попыткам увидеть Небесный град. Все произведения содержат образы "небесных цветов" или драгоценных камней, украшающих небесные стены. В известном смысле, земные драгоценности возникают как прообразы "небесных камней", то есть Небесный град является источником симметрий, лишь интеллектуально созерцаемых в земном мире.
В "Улиссе" Дж. Джойса есть один крайне характерный для манеры автора каламбур (у автора "Улисса", как и у Кэрролла, которому он во многом близок, игра слов часто переходит в игру логическими отношениями) : увидев стену кладбища, герой сопоставляет "cemetery" и "symmetry" (кладбище и симметрия). Уподобление поражает своей глубиной и точностью. Ведь мы уже говорили, что отношение симметрии предполагает некоторый выделенный из внешнего мир; недаром алхимики использовали рисунок гробницы как символ трансмутации (превращения обычных металлов в благородные). В нашем случае это соответствует превращению хаотической внешней случайности в присоединенную в точке симметрию (это как раз есть то, что Т.Манн называл герметической педагогикой или сублимацией духа). Поэтому "другой мир" осуществляет непредставимые симметрии.
Средневековые художники подчеркивали это заменой классической перспективы (некоторого внешнего условного языка, с помощью которого евклидова геометрия нашего времени заменяется проективной, и поэтому все линии сходятся и видимые размеры убывают с расстоянием) обратной перспективой, согласно которой размеры объектов соотносятся с их духовной значимостью в соответствии с иерархией, лежащей в основе замысла картины. Но это вовсе не означает, что обратная перспектива в отличие от классической более естественна, как думал, например, П.Флоренский. Также и этот принцип не является присущим изображению.
В то же время музыка всегда носила характер искусственного, внутреннего языка, апеллирующего к чему-то "внечувственному" в нашем сознании. Подобно средневековой живописи, которая стремилась как бы заключить нас в какую-то из другого мира пришедшую симметрию (в этом отношении особенно замечательны витражи готических соборов, превращающих прихожан в узников драгоценного камня, Небесного града), музыка вся "неотсюда", то есть принадлежит "внутренней сказке".
Идеи Просвещения и в особенности мысли Руссо о "естественном" знании породили в музыке XIX века мечту о "естественной" музыке, идущей от природы, подобно "подлинной" живописи (под такой живописью эстетика XIX века понимала лишь Высокое Возрождение и его эпигонов, то есть Рафаэля, представителей Болонской школы и академистов). Совершенно последовательно эта эстетика рассматривала всю живопись до Рафаэля и всю музыку до Бетховена как примитив.
Но если сравнить музыку величайшего представителя романтического направления Вагнера с произведениями доктринеров "естественной" музыки, легко убедиться в противоречивости самой идеи последних. Действительно, Вагнер в "Тристане и Изольде", самом замечательном из своих творений, музыкально противопоставляет внешний мир и любовь, находящую высшее выражение в смерти. Жизнь — это факел, который должен погаснуть, чтобы, изъяв любовников из внешнего мира, породить музыкальное царство любви. И чтобы прояснить эту мысль, Вагнер ссылается на философию буддизма, в которой пламя светильника отображает цепь рождений, а погасший светильник является прообразом Брхата, преодолевшего цепь рождений и достигшего нирваны.
В музыке Вагнера нет ничего от имитационной живописи академизма, то есть ничто в ней не апеллирует к "естественному" человеку. Напротив, она, всецело теоретическая и философская, менее всего напоминает что-то подобное естественному языку. "Ключевые мелодии" (лейтмотивы) Вагнера явлются своего рода заклинаниями, вызывающими нужный автору философский образ.
Таким образом, музыкальные констелляции Вагнера не вытекают как некоторые неизбежные следствия из его философских замыслов. Вся его музыка — заклинание и принуждение образов, которые вне его музыкальной магии (вне его культурного мира) были бы лишены какого-либо внутреннего смысла.
В вагнеровских сюжетах музыкальный язык вовсе не кажется внутренне им присущим. Он столь же условен, как и всякая знаковая система. То есть и в вагнеровской музыке культура, как и в любой области человеческого духа, проявляется как самоограничение.
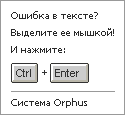


Добавить комментарий