Внутренняя сказка
ВНУТРЕННЯЯ СКАЗКА
Ранние романтики (особенно Э.Т.А. Гофман) любили как литературный прием такую конструкцию, где в каждой точке реальности присоединялось (если воспользоваться геометрическим термином) сказочное пространство. Например, реальные надворные советники, населяющие гофмановские города "внешнего пространства", преображаются в сказочные персонажи, но при этом в персонажи традиционных сказок, столь же широко представленные в мифологии, как и в реальной жизни.
Мифологическая (традиционная) сказка не выделена полностью из внешнего мира, ибо населена его прообразами. Так, Дон-Кихот, пытавшийся воплотить в ренессансной Испании миф о Рыцаре, отнюдь не изъят при помощи "своей сказки" из мира, она его не защищает, он открыт ударам, идущим из реального пространства, хотя и пытается его игнорировать.
В "Сильви и Бруно" использован совершенно новый композиционный принцип. Именно в каждой точке внешнего мира взаимодействуют две сказки. "Естественная" сказка вполне традиционна. В ней есть и добрый король, и злой узурпатор (его младший брат), и несчастные принц и принцесса во власти злой мачехи. Традиционная сказка основана на развернутой пародии, обыгрывающей железнодорожное расписание. Дворец злого короля — железнодорожная платформа. "Железнодорожная сказка" обычно начинается в вагоне дачного поезда. Там же появляется и странный профессор, соединяющий сказку "внешней страны", то есть "естественную", со сказкой страны фей, где царят непредставимые образы из мира "зеркальной", освобожденной от реального пространства сказки.
Чтобы геометрическая структура повествования, склеенного из двух сказок, была прозрачнее, впервые у Кэрролла появляется внешний мир. Наряду с прекраснодушными персонажами банального викторианского сюжета (надо думать, что профессор Доджсон не иронизировал, он просто не мог представить себе небанальную действительность; этим и объясняется псевдосуществование, которое он вел в искусственном мире Оксфорда, напоминающее столь же искусственное бытие Канта в Кенигсберге) во "внешнем" мире появляются еще и прообразы "пространства фей" из мира интеллектуальных шуток. В нем, как у Свифта в Лапуте, вся суть в остроумном вывертывании наизнанку классической механики. При этом так называемая "наглядная" классическая физика обнаруживает всю свою неочевидность. В этом отношении особенно характерным кажется пример с гостиной, движущейся по баллистической траектории. Интересно, что среди различных "безумных" парадоксов, основанных на строгом соблюдении законов физики, именно этот пример реализации состояния невесомости в наше время совсем не кажется только лишь отвлеченной интеллектуальной конструкцией.
Психологически интересно, что воплощение вечно женственного — в первых книгах этот образ был связан с Алисой — в "Сильви и Бруно" развертывается. Мир интеллектуальной игры связан с земным отражением эльфической Сильви — леди Мюриэл и с волшебным братом Сильви — принцем Бруно. Тем самым, в известном смысле, образ Алисы раздваивается на лирический и логический.
В спорах с Галилеем сторонники Аристотеля в качестве решающего аргумента против использования при астрономических наблюдениях оптических приборов выдвигали довод, что они искажают реальность. Аристотелианцы справедливо замечали, что телескоп создает, в сущности, другую физическую реальность, хотя бы тем, что открывает новые астрономические объекты, ранее не наблюдаемые.
Неудивительно, что развитие астрономии ведет к исчезновению старых представлений типа "семь планет — семь элементов", то есть в астрономии, вооруженной приборами, старый подход, основанный на изучении констелляций, ищущий в звездных параметрах некий внутренний смысл, уже неэффективен. Именно поэтому ключом к разгадке двух связанных миров: "фейного" и "внешнего" ("естественной" сказки) оказывается лекция профессора на железнодорожной платформе (во дворце железнодорожного короля, похитившего престол у настоящего начальника станции, который в конце повести оказывается владыкой пространства эльфов, примиряющим в заключительной сцене оба мира).
В лекции демонстрируются изобретения профессора: микроскоп (делающий из блохи лошадь) и мегалоскоп, совершающий обратную операцию. И здесь игра слов, как часто у Кэрролла, реализуется наглядно и поэтому превращается из безобидного каламбура (микроскоп — мегалоскоп) в безумный парадокс. Та же форма кроткого помешательства, порожденная милым ученым педантизмом, блестяще проявляется в рассказах странного внеземного ученого о картах, отображающих мир столь точно, что их просто невозможно развернуть, и о теории движения совершенных шарообразных тел. Теория эта, воплощенная в шарообразном декане одного из колледжей этого странного мира, реализуется при "охоте на студентов" (своеобразной форме конкурса для абитуриентов в "другом мире").
Это может показаться смешным педантизмом, но поразительно, насколько последовательно воплощает Кэрролл необычную конструкцию своей повести. И из того, что "пространство эльфов" присоединено к одной точке внешнего пространства, естественно следует непротяженный характер "эльфического времени" в реальном пространстве. То есть время "мира фей" образует точку во внешнем времени. Это чрезвычайно распространенный художественный прием. В эпических произведениях, например, в "Махабхарате" или "Песне о Роланде", эта геометрическая конструкция использовалась для соединения двух типов времени: эпического, которое не несет элемента конца (ведь эпическое полотно, подобно дневнику, можно продолжать, пока завершение не будет продиктовано внешними факторами), и драматического, построенного по иному принципу.
Поэтому в "Махабхарате" замечания Кришны об активности, которую истинный брахман может проявить, оставаясь свободным от мира страстей (от элемента "раджас"), пока в его поступках отсутствует личный элемент, не являются лишь механической вставкой философского фрагмента в эпический текст. Пояснения Кришны относятся к теоретическому (и поэтому драматическому) времени. Это "музыкальное" время вследствие своей изъятости из "внешнего" (эпического) времени воспроизводимо, так как несет в себе свое завершение. Поэтому оно присоединяется в точке реального времени.
Кэрролл реализует эту идею, введя в "естественную" сказку особые волшебные часы, позволяющие профессору присоединиться к любой временной точке "железнодорожного царства". Благодаря этому устройству присутствие профессора "в сказке об эльфах" не ощущается в "железнодорожной сказке". Именно музыкальный характер времени мира эльфов, воплощенный в этих часах, позволяет совместить самую суть банальной сказки — сказочно-отвратительного мальчишку Уггуг — с поэтической парой из мира эльфов: Сильви и Бруно.
Часы профессора, будучи воплощением времени, изъятого из внешнего хаоса, тем самым реализуют геометрический характер времени. В этом смысле часы должны демонстрировать его обратимость, причем обратимость не должна нарушать принцип причинности (события должны оставаться внутри светового конуса, говоря современным языком). Действию часов посвящена в книге целая серия забавных эпизодов; и в каждом обратимость времени связана с его музыкальностью в том смысле, что "изъятость" времени связана с его драматичностью, то есть время это "записано на пленку" (включает результат как элемент процесса). И именно поэтому часы могут обращать движение. В известном смысле, именно "драматический" процесс может вместиться в часы, оказаться связанным с их конструкцией. Иначе говоря, "драматическое" время может оказаться отгороженным от внешнего мира, и эта отгороженность выражается в виде особой конструкции пространства, а в книге — в виде волшебных часов, несущих время в себе, вместо того, чтобы, находясь в нем, отмерять его внешний ход.
Здесь мы сталкиваемся с обстоятельством истинно загадочным.
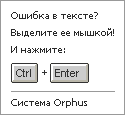


Добавить комментарий